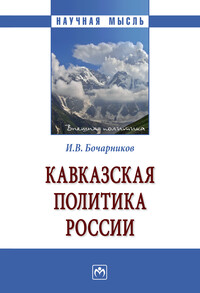Кавказская политика России
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Внешняя политика России
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 175
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-16-016720-6
ISBN-онлайн: 978-5-16-109305-4
Артикул: 747881.03.01
К покупке доступен более свежий выпуск
Перейти
В монографии представлен историко-политологический анализ политики России в одном из наиболее значимых регионов современной человеческой цивилизации — Кавказе. Исторические рамки исследования охватывают периоды с X по XX век.
Выявляются истоки кавказской политики России, анализируются ее основные этапы, определяются наиболее значимые достижения, ошибки и уроки. Особое внимание уделяется кавказским войнам России, а также опыту подавления антироссийских и антисоветских вооруженных выступлений в регионе.
Определяются основные направления выстраивания отношений России с сопредельными в регионе государствами, а также иными субъектами современных международных отношений.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей Кавказа. Будет полезна студентам, аспирантам и преподавателям вузов по специальности «История».
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 41.03.01: Зарубежное регионоведение
- 41.03.05: Международные отношения
- ВО - Магистратура
- 41.04.01: Зарубежное регионоведение
- 41.04.04: Политология
- 41.04.05: Международные отношения
- Аспирантура
- 41.06.01: Политические науки и регионоведение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Кавказская политика России, 2024, 747881.04.01
Кавказская политика России, 2022, 747881.02.01
Кавказская политика России, 2021, 747881.01.01
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
КАВКАЗСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И.В. БОЧАРНИКОВ Москва ИНФРА-М 202МОНОГРАФИЯ
УДК 327(075.4) ББК 66.4(2Рос) Б86 Бочарников И.В. Б86 Кавказская политика России : монография / И.В. Бочарни- ков. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 175 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1221629. ISBN 978-5-16-016720-6 (print) ISBN 978-5-16-109305-4 (online) В монографии представлен историко-политологический анализ поли- тики России в одном из наиболее значимых регионов современной челове- ческой цивилизации — Кавказе. Исторические рамки исследования охва- тывают периоды с X по XX век. Выявляются истоки кавказской политики России, анализируются ее основные этапы, определяются наиболее значимые достижения, ошибки и уроки. Особое внимание уделяется кавказским войнам России, а также опыту подавления антироссийских и антисоветских вооруженных высту- плений в регионе. Определяются основные направления выстраивания отношений Рос- сии с сопредельными в регионе государствами, а также иными субъектами современных международных отношений. Для широкого круга читателей, интересующихся историей Кавказа. Бу- дет полезна студентам, аспирантам и преподавателям вузов по специаль- ности «История». УДК 327(075.4) ББК 66.4(2Рос) ISBN 978-5-16-016720-6 (print) ISBN 978-5-16-109305-4 (online) © Бочарников И.В., 2021
Предисловие На протяжении практически всей своей истории Кавказ был объективно вовлечен в процессы военно-политической экс- пансии извне и, соответственно, вооруженного противостояния ей. Овладеть Кавказом, доминировать в регионе пытались буквально все сопредельные ему государственные и соответствующие им по- литические образования, ставившие перед собой цель расширения границ своего господства. Так, среди наиболее ранних попыток военно-политической экспансии в регион следует выделить во- енные походы на Кавказ персидских завоевателей из династии Ахеменидов (V—IV века до н.э.). Доминировавшее в II—I веках до н.э. в Причерноморье и на значительной части Северного Кав- каза Понтийское царство времен Митридата IV после своего пора- жения в I веке до н.э. уступило регион Римской империи. В I веке н.э. значительная часть региона оказалась под властью сарматов, в IV веке — гуннов. В VII веке начинается экспансия на Кавказ арабских халифов. Последующая история региона была связана с господством Хазарского каганата, а с началом монголо-татарского нашествия — владычеством тюркских завоевателей от Чингисидов (начало XIII века) до Тимура (конец XIV века). На протяжении по- следующих XVI—XVIII веков Кавказ стал ареной противоборства между Персидской и Османской империями. И, наконец, со второй половины XVIII века началась полномасштабная военно-политиче- ская экспансия в регион Российского государства. Дважды в своей истории (в V и XIII веках) регион испытал на себе и «великое пе- реселение народов», которые также сопровождались в большей сте- пени акциями военно-силового характера. Устойчивое и традиционное явление экспансии определялось выгодным геополитическим положением региона, представляв- шего собой естественный географический транзитный узел, терри- торию, по которой на протяжении столетий происходила миграция народов и целых цивилизаций с юга на север, с запада на восток и в обратном направлении. С другой стороны, собственно геостра- тегическое положение Кавказа позволяло контролировать домини- рующим в нем государствам прилегающие к региону территории. Данное обстоятельство определило специфику политической истории народов Кавказа. Она являла собой историю войн и воору- женных конфликтов между сопредельными государствами за вла- дение данным регионом и, соответственно, историю борьбы самих кавказских народов за выживание и самобытность. Объективно в эти процессы оказалось вовлечено и Российское государство. Изначальный смысл кавказской политики России
объективно и закономерно был определен ее военно-стратегиче- ским положением. Южные и юго-восточные рубежи Русского го- сударства с конца XV века представляли собой обширные степные пространства, по которым постоянно передвигались многочис- ленные кочевые народы, несшие смерть и разрушение русским го- родам и селениям. «Логика борьбы заставляла Россию стремиться к установлению стабильных границ, которые можно было бы защи- щать. Но вплоть до Кавказских гор, Черного и Каспийского морей на юге таких границ не было». Именно поэтому Кавказ в планах российского руководства изначально рассматривался как буферная зона, стабильность и безопасность которой во многом определяли безопасность и самой России. Очевидно, что данное обстоятельство и являлось основной доминантой эволюции кавказской политики России. Другим важнейшим аспектом, определившим характер и ди- намику развития русско-кавказских отношений, являлось исклю- чительное геостратегическое положение региона. Именно здесь проходил так называемый Малый шелковый путь и другие тор- говые пути, соединявшие Европу с Центральной Азией. Обладание и контроль над этими важнейшими торговыми магистралями да- вали существенный источник дохода. Поэтому на протяжении столетий Кавказ был объективно вовлечен в борьбу между веду- щими европейскими державами — Великобританией, Францией, Австрией, Германией, а также сопредельными региону государ- ствами — Ираном и Турцией. С начала XVIII века Кавказ стал иг- рать значимую роль в российской внешней политике как направ- ление, где предстояло ликвидировать искусственно созданную во- енно-экономическую блокаду России, для которой Кавказ, таким образом, являлся «окном» в Азию. И, наконец, третье обстоятельство, предопределившее характер и содержание кавказской политики России, определялось тем, что на протяжении столетий регион являл собой источник постоянной угрозы не только для России, но и для народов самого Кавказа. Сложившаяся в регионе «набеговая система», возведенная в ранг национальной традиции отдельных общин и ставшая для опреде- ленной части населения региона наиболее доходным промыслом, представляла собой не что иное, как вооруженный разбой в отно- шении соседей. Для большинства же народов Кавказа эта традиция, постоянно подогреваемая извне, была настоящим бедствием. По- этому неслучайно, начиная с периода правления Ивана Грозного, в Москву постоянно направляются представители северокавказ- ских народов и общин с предложением о принятии их в российское подданство. Российское государство, принявшее на себя в конце XV века мессианскую концепцию «Москва — третий Рим», не могло
отказать в помощи тем, кто просил об этом. Судьбы кавказских на- родов и их вооруженная защита, таким образом, длительное время являлись краеугольным камнем кавказской политики России. Все вышеперечисленные обстоятельства определяли основные направления политики России в регионе на протяжении столетий.
Глава 1 КАВКАЗ В ИСТОРИИ РОССИИ ИСТОКИ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ НА КАВКАЗЕ Первые контакты в военно-политической плоскости Российского государства с государственными образованиями Кавказа уходят своими корнями в далекое прошлое — начало X века. К этому периоду относятся первые военные экспедиции на Северный Кавказ. Первой такую экспедицию в прикаспийские области современного Дагестана совершил в 913 году Киевский князь Игорь. Экспедиция представляла собой, по сути, вооруженный набег в кавказские владения Хазарского каганата, не получила дальнейшего развития и не оказала сколь-нибудь существенного влияния на развитие ситуации в регионе. Ее важнейшее значение заключалось в том, что она продемонстрировала, что Киевская Русь перешла от оборонительных к активным наступательным военным действиям против своего наиболее значимого в тот период противника — Хазарского каганата. Более масштабным по характеру и значению были военные экспедиции на Кавказ (964—966 годы), осуществленные Киевским князем Святославом Игоревичем, в рамках его знаменитого хазарского похода. Поход завершился сокрушением Хазарского каганата и окончанием его господства, в том числе и на Северном Кавказе. В рамках этого похода Святослав со своей дружиной дошел до Кавказских гор, прошел через земли осетин и черкесов, захватил и разрушил древнейшую столицу Хазарского каганата Семендер1 на территории современного Дагестана, а на Таманском полу острове захватил другой крупнейший центр хазарского владычества — город Таматарху (Тмутаракань). Здесь же в последующем было образовано Тмутараканское княжество, вплоть до конца XI века являвшееся центром русского влияния в северном Причерноморье и в ряде других регионов Северного Кавказа. В последующем из-за феодальной раздробленности и вассальной зависимости от Золотой Орды Древняя Русь не могла осуществлять активную внешнюю и военную политику, в том числе 1 По данным арабских географов Семендер располагался где-то поблизости от Каспийского моря в 4 (8) днях пути от Дербента и 7 (8) от Итиля. Чаще всего Семендер отождествляют с более поздним городом Тарки (ныне одноименное городище близ Махачкалы). Согласно другой точке зрения, он мог находиться в низовьях Терека у современного Кизляра.
и на кавказском направлении. Лишь с началом формирования Российского централизованного государства, с конца XV — начала XVI веков проявляются интересы России к Кавказу и начинают выстраиваться отношения с народами региона, практически с са- мого начала приняв военно-политический характер. На протяжении длительного периода, вплоть до конца XIX века, кавказская политика России рассматривалась как составная часть в рамках единого общеевропейского «восточного вопроса» в его российской постановке, а именно отношения с татарами и турками. Несмотря на то что официально Кавказ всегда оставался в тени российской внешней политики, именно здесь имела место точка соприкосновения с самым традиционным противником России — Турцией. Посредством Турции интересам России в регионе также противостояли Франция, Великобритания (опасавшаяся за свои колониальные владения в Индии), а с конца XIX века — Германская империя. С другой стороны, Россия на Кавказе, и особенно в Закав- казье, в политической практике нередко сама противодействовала интересам европейских держав, как в самой Турции, так и в Персии (Иране), на всем Ближнем Востоке, в Индии (Ост-Индской ком- пании, подрывая ее монополию в торговле шелком) и т.д. По свидетельству автора исследования «Кавказская война» генерала русской армии В. Потто, практически все российские государи, начиная с Ивана Грозного, стремились к утверждению своей власти на Кавказе. «Мысль о господстве на Кавказе стано- вится наследственной в русской истории»1. Сам Иоанн IV одним из первых предопределил и военное значение Кавказа для России, построив на реке Сунжа Терскую крепость для контроля за раз- витием военно-политической обстановки в регионе. Федор Иоан- нович, продолжая дело отца, уже подписал договор с кахетинским царем Александром II, по которому Кахетия (в российских до- кументах того времени — Иверская земля2) переходила в полное подданство России, определив таким образом положение этого грузинского царства как вассального от России. Причем инициа- тива о вассалитете исходила от самого царя Александра, пытавше- гося использовать Московское царство для освобождения Кахетии от персидского гнета и в целях недопущения завоевания ее Тур- цией. В данном случае военно-политический союз Московского царства и Кахетии был направлен против шамхалата Тарку, ко- торый в указанный период одинаково угрожал интересам и без- 1 Потто В.А. Кавказская война: в 5 т. — Ставрополь: Кавказский край, 1994. — Т. 1. — С. 14. 2 См.: Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом: Материалы, извле- ченные из Московского главного архива Министерства иностранных дел С.А. Белокуровым. Вып. 1, 1517—1613. — М., 1889. — C. XVIII.
опасности как Грузии, так и южным провинциям России. Для Грузии это означало укоренившуюся практику работорговли хри- стианским населением и постоянные опустошения, особенно Ка- хетии. Для России соседство шамхалата определяло небезопасное положение Астрахани и других южных городов. Поэтому целью первой экспедиции русских войск на Кавказ, возглавляемой вое- водой А.И. Хворостиным, было низложение тарковского шамхала и возведение на престол шамхалата родственника кахетинского царя Александра. Тем самым впервые была сделана попытка про- рвать экономическую и политическую блокаду России, а также ре- шить проблему обеспечения военной безопасности южных рубежей Российского государства посредством установления в регионе (на территории современного Дагестана) лояльного для себя полити- ческого режима. Экспедиция А.И. Хворостина не достигла наме- ченных целей, потерпела поражение. Не дождавшись обещанной помощи от Александра, русские вынуждены были самостоятельно отражать нападения войск шамхала. В результате практически пол- ностью трехтысячный отряд Хворостина был уничтожен, в живых осталась лишь четвертая часть воинов. Преждевременное вмешательство в дела Закавказья, переоценка сил союзников и своих собственных дорого обошлись Москве. Было очевидно, что Московское государство в конце XVI века еще не могло поддерживать такие отдаленные владения. Тем не менее в полном титуле Федора Иоанновича уже значился титул «государя земли Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкес- ских и горских князей»1. Борис Годунов, несмотря на сложную вну- триполитическую обстановку в стране, продолжил политику, на- правленную на развитие отношений и оказание помощи отдельным грузинским государствам, в том числе Кахетии. В 1604 году им была вновь направлена военная экспедиция в Тарки во главе с во- еводами И.М. Бутурлиным и В.Т. Плещеевым. Цели были анало- гичными предыдущим. Отряду, возглавляемому И.М. Бутурлиным, пришлось в Дагестане столкнуться уже непосредственно с турец- кими войсками. С их помощью кумыками весь его семитысячный отряд был полностью уничтожен. Причины поражения те же, что и у отряда воеводы А.И. Хворостина, — неоказанная вооруженная помощь со стороны кахетинского царя. Для правителей региона, находившихся между «двух огней в лице Турции и Персии, уже тогда была характерна практика решать вопросы посредством ис- 1 См.: Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. История России с древ- нейших времен. Т. 7—8 / отв. ред. И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. — М.: Мысль, 1989. — С. 269; ЦГАДА, ф. 110. Сношения России с Грузией, 1596— 1597 гг. № 1, л. 1—110.
пользования внешней военной силы. Эта роль, безусловно, пред- назначалась России. Дальнейшее развитие событий в Кахетии (убийство царя Алек- сандра, переориентация захватившего престол его сына Констан- тина на Персию) временно ослабили российско-кахетинские поли- тические отношения. В целом же тенденцию российских военно-политических устремлений на Кавказ, закрепления в регионе, а также практику вмешательства во внутренние дела Персии, вассалами которой являлись и Восточная Грузия, и Тарковский шамхалат, прервал лишь Михаил Федорович Романов, в царствование которого предстояло преодолеть «последствия смуты на Руси». В общем- то, в политической практике российского государства это был один из редких случаев сосредоточения на внутренних про- блемах, период интровертности общества. Именно этим и объ- ясняется осторожность в кавказских делах Михаила Романова, в царствование которого хотя и восстанавливаются связи с пред- ставителями ряда грузинских династий: Леваном II Дадиани — правителем Мигрелии — и Теймуразом I Кахетинским. Но отно- шения носят сдержанный характер и прерываются, в конечном счете, вследствие того, что на престолах ведущих государ- ственных образований Грузии — Кахетинского и Картлийского царств — по решению шаха Аббаса I могли быть только цари мусульманского вероисповедания. Таким образом, почва для поддержки единоверных народов, что было существенно, была ликвидирована. В рассматриваемый период основной акцент во внешнеполити- ческой деятельности России на ее южном, кавказском направлении делается на противодействие военно-политической экспансии Турции посредством установления военно-политического союза с Персией, значительно обессиленной уже к исходу XVI века. Ос- манская же империя на рубеже XVI—XVII веков стала представ- лять одинаковую угрозу и Персии, и южным рубежам России. На- пример, требования к Персии заключались в установлении турец- кого протектората над всем Закавказьем и Дагестаном; обеспечении контроля Турции над транзитом шелка и других товаров из Персии и Индии в Европу, представлявших к тому времени значительный источник дохода. К России выдвигались требования восстановить Астраханское ханство. Поэтому данный альянс был взаимовыгоден, тем более, что к антитурецкому военно-политическому и экономи- ческому союзу была готова присоединиться и Польша. Вследствие этого, уже шахом Годабендом, после поражения Персии в 1586 году, московскому царю были обещаны Баку и Дербент, а его сын шах Аббас Великий, кроме того, уступал и Кахетию в обмен на помощь
России в борьбе против Турции1 с тем, чтобы они не достались Оттоманской Порте (еще одно название Османской империи — Турции). Большую роль в сближении Московского царства и Персии сыграл подписанный в 1567 году торговый договор между рус- ским правительством и представителями джульфинской тор- говой компании2, закрепивший торгово-экономические отношения между странами. В 1673 году этот договор был вновь подтвержден, а в 1717 году русский посланник в Персии А.П. Волынский за- ключил русско-персидский договор, согласно которому русские купцы получили право свободной торговли на территории Персии. И хотя данные акты не давали основания перевести отношения между Россией и Персией в военно-политическую плоскость, тем не менее можно утверждать, что торгово-экономический союз России с Ираном сыграл свою позитивную роль: Турции не уда- лось закрепиться в Восточном Закавказье. Таким образом, основная потребность Российского государства, определявшая его интересы на Кавказе на данном этапе, заключа- лась в обеспечении военной безопасности, что представляло собой задачу стратегического характера всей военной политики России. Не менее значимыми были и потребности России в установлении дипломатических и иных контактов с рядом закавказских государ- ственных образований, в создании торгово-экономического союза с Персией с целью уравновесить военно-политическую мощь Ос- манской империи в регионе. Военные экспедиции России на Кавказ в рассматриваемый период были единичными, не опирались на весь потенциал государства и предпринимались московским правитель- ством в целях зондирования обстановки в регионе. В целом интересы России на южном, кавказском направлении носили охранительно-оборонительный характер, в частности в об- ласти отношений с Персией и Турцией. В отношениях же с гру- зинскими государствами интересы России определялись необходи- мостью патронирования единоверному народу. Следует отметить, что в данный период шел процесс активного поиска и установления политических контактов с московскими ца- рями самих представителей правящих династий и духовенства ряда полувассальных грузинских царств и княжеств. С Арменией же, находившейся в полной зависимости от Турции и Персии и ли- шенной даже элементов государственности, контакты осуществля- 1 См.: Полиевктов М.А. Материалы по грузино-русским отношениям. — Тби- лиси: Изд-во Тбилисского гос. ун-та, 1937. — С. XXI. 2 См.: Кунакова К.П. Русско-иранские торговые отношения в конце XVII — начале XVIII в. // Исторические записки / отв. ред. А.Л. Сидоров. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — Т. 57. — С. 232.
К покупке доступен более свежий выпуск
Перейти