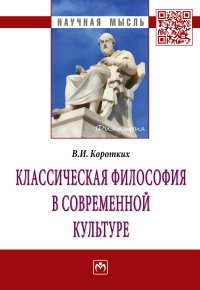Классическая философия в современной культуре
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Общая история философии
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Автор:
Коротких Вячеслав Иванович
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 160
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Дополнительное профессиональное образование
ISBN: 978-5-16-008964-5
ISBN-онлайн: 978-5-16-107410-7
Артикул: 445350.05.01
В монографии представлены исследования по истории классической европейской философии и размышления о феноменах современной культуры, сохраняющих связь с ней. Автор - специалист в области истории западноевропейской философии Нового времени - пытается показать, что наследие классической философии продолжает жить в постклассических способах философствования и современной художественной литературе, а тщательное изучение ключевых событий истории мировой философии способствует более глубокому осмыслению проблем современной культуры, в том числе проблем методологии гуманитарного познания и философии образования.
Для студентов и преподавателей, а также всех интересующихся философией культуры.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 40.03.01: Юриспруденция
- 44.03.01: Педагогическое образование
- 44.03.05: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
- 47.03.01: Философия
- ВО - Магистратура
- 47.04.01: Философия
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ Â.È. ÊÎÐÎÒÊÈÕ Москва ИНФРА-М 2019 МОНОГРАФИЯ
УДК 13(075.4) ББК 71.0 К68 Коротких В.И. К68 Классическая философия в современной культуре : монография / В.И. Коротких. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Научная мысль). ISBN 978-5-16-008964-5 (print) ISBN 978-5-16-107410-7 (online) В монографии представлены исследования по истории классической европейской философии и размышления о феноменах современной культуры, сохраняющих связь с ней. Автор – специалист в области истории западноевропейской философии Нового времени – пытается показать, что наследие классической философии продолжает жить в постклассических способах философствования и современной художественной литературе, а тщательное изучение ключевых событий истории мировой философии способствует более глубокому осмыслению проблем современной культуры, в том числе проблем методологии гуманитарного познания и философии образования. Для студентов и преподавателей, а также всех интересующихся философией культуры. УДК 13(075.4) ББК 71.0 ISBN 978-5-16-008964-5 (print) ISBN 978-5-16-107410-7 (online) © Коротких В.И., 2013 ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1 Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29 E-mail: books@infra-m.ru http://www.infra-m.ru Подписано в печать 26.11.2018. Формат 6090/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. Печать цифровая. Усл. печ. л. 10,0. ППТ12. Заказ № 00000 ТК 445350-1009563-250613 Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1 Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29 ФЗ № 436-ФЗ Издание не подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1
От автОра Возникновение этого текста, представляющего собой серию исследований и заметок по истории философии и методологии гуманитарного познания, было предопределено публикацией в 1999 г. «Очерка исследования структуры системы философии Гегеля», – точнее, тем, что размышления по поводу рассматривавшихся в книге сюжетов продолжались и постепенно распространялись на предметы, весьма далекие от гегелевской философии, хотя именно гегелевская философия и продолжала оставаться центром всех моих изысканий. Судьба оказалась к Гегелю благосклонной: будучи последним представителем традиции классической европейской философии, он и сегодня становится неизбежным собеседником каждого, кто вспоминает о философии, задумывается над природой этой формы духовной деятельности или задается вопросами о ее месте в современном мире или культуре будущего. После первой публикации подобные размышления естественным образом определялись мной как «параллели» тому представлению о гегелевской философии как последнем и наиболее полном выражении классической западноевропейской философии, которое обрело в «Очерке» свой первый «голос». Впрочем, книга, надеюсь, окажется занимательным собеседником и для тех читателей, кто не был знаком с «Очерком», – достаточно, чтобы их объединяло с автором стремление к всеобщему, прокладывающее свой путь к теоретическому мышлению в каждой неповторимой биографии. Сознательно отказываюсь от систематизации и даже от формальной нумерации фрагментов – текст представляет собой, скорее, такое повествование, в котором каждый из них стремится к исчерпывающей полноте, поскольку пытается отыскать завершенное выражение лежащего в его основе сюжета. «Второе» и «третье» в нем может быть понято и без «первого», хотя, разумеется, каждая новая «параллель» придает дополнительные оттенки мысли, которая реализуется в отдельном исследовании.
КлассичесКая филОсОфия и сОвременная литература: ОнтОлОгия, фенОменОлОгия, герменевтиКа твОрчества и вОсприятия Умберто Эко, раскрывая в «Заметках на полях “Имени розы”» «тайны» своего писательства, замечает, что начальный этап работы над романом всегда заключается в сотворении самой реальности, «рассматривание» которой порождает затем писательскую «речь», постепенно становящуюся «текстом»; лишь комбинации тысяч и тысяч поправок приближают ее первоначальные, несовершенные варианты к созерцаемой реальности настолько, что автор соглашается наконец отпустить свое творение, выросшее и окрепшее, в самостоятельную жизнь – соглашается передать его читателю. Работе над текстом – конечно, всяким текстом, а не только над романом, – предшествует, таким образом, «предприятие космо логическое»1, а сам текст предстает с этой стороны как «космологическая структура»2. «Я осознал, – пишет Эко, – что в работе на романом, по крайней мере на первой стадии, слова не участвуют»3; «для рассказывания прежде всего необходимо сотворить некий мир, как можно лучше обустроив его и продумав в деталях»4; «Задача сводится к сотворению мира. Слова придут сами собой»5. Хотя сотворенная реальность и существует лишь в представлении, в сознании автора, для него она должна быть более значительной и весомой – вплоть до непосредственной осязательности, «тяжести» (вспомним, к примеру, об отношениях Флобера и его героини), – чем весь остальной мир; только в этом случае «иллюзорное» творение захватывает своего творца, заставляя его отворачиваться от мира и восстанавливать себя, движение своего сознания в пустом пространстве белого листа. Читатель же, повидимому, движется в обратном направлении. Открывая книгу, он решается на то, чтобы на материале собственной жизни, из собственных представлений и переживаний воссоздать запечатленную автором картину. Однако, в конце концов, и он, так же, как и автор, оказывается перед необходимостью заново творить тот мир, созерцание которого стало для автора источником его письма. И если стремление читателя к точности понимания оказывается столь же искренним, как и стремление автора к точности изображения сотворенного им однажды в своем представлении мира, то и читатель, в свою 1 См: Заметки на полях «Имени розы» // Иностранная литература. 1988. № 10. С. 9293. 2 См.: там же, с.93. 3 Там же, с.92. 4 Там же, с.93. 5 Там же.
очередь, не может остановиться на созерцании воссозданного, общего теперь для автора и читателя, мира и обречен на то, чтобы подбирать слова (звуки и концепты) и синтаксис для его отображения; а поскольку в процессе работы всегда (?) выявляется неадекватность первого, авторского, отображения предмета, «читатель» становится «интерпретатором», а письмо, порожденное «демиургической деятельностью» автора, захватывает все новые и новые души, переходит из века в век и из страны в страну, естественно возвращаясь при этом к одним и тем же образам и сюжетам. Умберто Эко, который при написании этих строк воспринимал себя, кажется, удивленным мальчиком, признается: «Так мне открылось то, что писатели знали всегда и всегда твердили нам: что во всех книгах говорится о других книгах, что всякая история пересказывает историю уже рассказанную»1. Хорхе Луис Борхес, любивший эту мысль и возвращавшийся к ней в своих рассказах и заметках снова и снова, говорил, что некоторые – и как раз самые значительные – книги мы знаем и до того, как впервые прочитали их, поскольку о них говорят все другие книги. В первом фрагменте «Золота тигров» он говорит, например, что «историй всего четыре» – об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои, о возвращении, о поиске и, наконец, о самоубийстве Бога, – «Историй всего четыре. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их – в том или ином виде»2. А в заметке, носящей знаменательное название «Сюжет» (занимает всего 1/3 страницы!), чуть ли не вся история человечества – «судьбе по нраву повторения, варианты, переклички»3 – умещается в промежутках между несколькими «И ты, сын мой!», произносимыми с разной интонацией от Цезаря до аргентинского гаучо. Да и сама жизнь – как и литература, от которой ее на деле весьма трудно отличить, поскольку для сознания и та, и другая выступает как движение бытияопределенности, – повторяет одни и те же сюжеты, наполняя их самым разным с точки зрения языка, исторического колорита эпохи и нации, особенностей социальной группы и т.д. содержанием. В результате открывается, что даже те сюжеты, которые реалистическая инерция нашего сознания стремится представить как («исторические») «факты», или, по крайней мере, «оттиски» с них, на самом деле поддаются неисчислимому количеству интерпретаций, в равной мере реалистичных и фантастических. Сюжеты мировой истории и мировой литературы перегружены содержанием (смыслом) настолько, что ... давно уже потеряли всякий смысл. Может быть, речь должна идти о 1 Там же, с. 92. 2 Борхес Х.Л. Соч. в 3х томах, т. 2. – Рига, 1994. – С. 260. 3 Там же, с.175.
«бессмысленности», а может быть, о «всесмысленности» того, что может назвать, представить и совершить уставшее человечество1. Если посмотреть на этот результат с исторической точки зрения, то его нельзя оценить иначе, как успех (хотя бы временный и относительный) скептицизма; дихотомия истины и лжи, в которой «истина» всегда «начинала», а потому и «выигрывала», сменяется потоком (неограниченным многообразием) более или менее предпочтительных интерпретаций. Ницше, по существу, открывая в «Веселой науке» обсуждение этой темы, задается вопросом о том, «не есть ли всякое существование, по самой сути своей, толкующее существование»2. «Скорее всего, – замечает он, – мир еще раз стал для нас «бесконечным», поскольку мы не в силах отмести возможность того, что он заключает в себе бесконечные интерпретации»3. Уделом автора оказывается теперь не поиск истины, или борьба за нее, а интерпретирующая реконструкция и комментарий. И в этой ситуации автор и читатель также, в свою очередь, оказываются вправе видеть в литературе, то есть в своей «игре в жизнь», единственную и самодостаточную реальность, – что делать, если «мир», представлявшийся прежде устойчивым независимым бытием, растворился в интерпретациях! Кажется, большая часть литературы 20 века именно так и понимала свое предназначение. – «Игра в жизнь», затеянная литературой прошлого века, заключалась уже не в том, чтобы пытаться воспроизвести, повторить реальность в слове, а в том, чтобы сконструировать ее, сделав идею, образ, слово источником того «космологического предприятия», о котором говорит У. Эко. При этом и со стороны автора, и со стороны читателя, собственно «игра» проявляется в движении, взаимном отражении и взаимном переходе творения, созерцания и переосмысления. Это – этапы последовательного движения субъекта в процессе создания и постижения литературного произведения, намеченные у нас выше, но это также – и три плоскости, или плана, в которых существует сама литература. Она творит свой мир, вводит с помощью своих особых художественных средств в процесс созерцания этого мира и заставляет всякого внимательного читателя переосмыслять его, то есть заново его творить, – «интерпретировать». Кроме того, мы можем увидеть здесь и указание на точки зрения и подходы, с которых и в контексте которых раскрывается литературное произведение, – на возможность подобных обобщений и указывают вынесенные в название нашей заметки «онтология», «феноменология», «герменевтика». Вспомним в этой связи, что и классическая европейская философия, рассматривавшая, по существу, то же, что пытается понять современная литература, – это можно выразить, к примеру, так: процессы познания и 1 Запоминающееся выражение этой мысли Борхес дал в рассказе «Ундр» – см.: там же, с. 349353.. 2 Ницше Ф. Соч. в 2х томах, т. 1. – М., 1990. – С. 700. 3 Там же, с. 701.
закономерности деятельности самосознающего субъекта в их всеобщих определенностях, – пришла в своем завершении, в «Феноменологии духа» Гегеля, к аналогичному представлению о тройственном строении своего предмета. Именно, Гегель выделяет уровень собственно «предмета», уровень сознания как предмета рассмотрения и уровень «нашего», авторского и читательского, сознания, или сознания феноменолога. У Гегеля сознание проходит эти ступени своей трансцендентальнофеноменологической истории, чтобы узнать в себе субстанцию действительности – осознать себя в качестве духа. Но, более того, ведь и лежащие в основе этого «феноменологического» учения представления о структуре воссоздаваемой в процессе художественного творчества реальности также, по существу, имеют отчетливо философское происхождение, поскольку ни в одном другом виде человеческой деятельности не было продемонстрировано с такой ясностью, что бытие имеет трансцендентальную природу, что оно целиком сводится к снимаемой с него в процессе познания определенности. «Бытие» – то, в чем прежние формы человеческой культуры могли видеть начало устойчивости мира и непреложности его законов, – само оказалось лишь инертным субстратом определенности, отрицательным моментом движения сознания. Повторим, что никто так ясно, как философы, не осознавал этого растворения «бытия» в «определенности», «информации», хотя, с другой стороны, почти все явления современной жизни напоминают нам об этом – посмотрим на всевластие денег, средств массовой информации, PRтехнологий и т.п. «Современная литература» признанием своего родства с другими, отнюдь не «художественными», фактами современности, рискует быть «объясненной», сведенной к социологическому факту, чему проницательные мыслители всегда сопротивлялись1. Но несомненно также и то, что, избегая редуцирующего «объяснения», литература не может не стремиться к пониманию, – а его условием всегда оказывается умение увидеть в художественном произведении явление истории культуры, в том числе, и «истории идей». А как раз в этом смысле современная литература, как видим, – прямая наследница классической философии, вне контекста истории философии и, шире, истории теоретической мысли, ее отношение к реальности придется принимать как «чудачество», – пусть с ним и остается тот, кто не хочет ее понимать. В самом деле, если оставить в гегелевской эпохе идею прогресса – современная культура ее не понимает и не принимает, – то можно будет сказать, что стихия гегелевской «Феноменологии» с игрой ее трех «действующих лиц» – «нашего сознания», «самого сознания» и «предмета», – является и той стихией, в которой протекает «современный литературный процесс». Бесконечная игра сознания – с предметом (героем), самим собой (текстом) и своими границами (автором, читателем и контекстом) – вот единственная действительно новая тема литературы 20 века. С этой 1 См., например, замечания на эту тему К.Г. Юнга в: Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991. – С. 103118.
точки зрения даже противопоставление авангарда (как последнего этапа эволюции «модерна») и постмодернизма выглядит вторичным. Конечно, заявленная у нас тема, взятая в более или менее полном ее обнаружении, не могла бы стать предметом этих беглых замечаний. Я намерен выделить из всего ее состава лишь один момент – отношение к предмету повествования, возникающее у автора и читателя в процессе создания и восприятия литературного произведения. Тем фоном, в котором литература 20 века склонна была ставить этот вопрос, являлось отношение к реализму как «роду фантастической литературы». И, прежде всего, следует понимать, что «реалистичность» текста далеко не всегда оказывается следствием адекватного отражения предмета. Кошмары, зафиксированные Кафкой, потрясающе (и, может быть, излишне) реалистичны, хотя при свете дня я и сомневаюсь в том, что существовал прототип юноши, проснувшегося насекомым, или странного землемера, который не может ни проникнуть в замок, ни избавить себя от сознания необходимости сделать это. С теоретической точки зрения, проза Борхеса (коль уж мы упоминали о нем выше) может рассматриваться, пожалуй, как самая наивная в плане осмысления соотношения бытийного статуса автора и предмета повествования, автора и героя. «Наивная» здесь значит: простая, незамысловатая, хотя, конечно, это и не мешает ей быть тонкой, остроумной и захватывающей. Источником его письма можно представить как некоторого рода «любопытство» – желание увидеть, как выглядел бы мир, если бы философские идеи, мифологические и религиозные представления действительно содержали в себе некоторую «реальность». Каждый его рассказ и каждое эссе представляют собой реконструкцию мира, каким он должен был бы быть, если бы те или иные идеи и представления и в самом деле были чемто большим, нежели произвольное сочетание случайно встретившихся в душе автора образов. Естественно, что, проводя подобные опыты, Борхес не мог пройти и мимо ключевого для всей литературы комплекса идей о тождестве сна и жизни, известных ему и на материале европейской, и на материале восточных культур. По существу, в своих построениях он очень часто не выходит за границы «парадокса снов» Декарта, а Лейбниц, видимо, является самым близким Борхесу мыслителем в классической традиции (и из дальнейшего нашего изложения станет ясно, насколько замечательно, что оба они – «библиотекари»), хотя сам Борхес, в соответствии со своей «эрудицией», чаще упоминает Беркли, Шопенгауэра, а то и вовсе фигуры, которые трудно не назвать сегодня вполне второстепенными в истории мировой культуры. Невозможно отделаться от впечатления, что, к примеру, «Алеф» – идеальная иллюстрация «Монадологии» Лейбница, а «Сообщение Броуди» представляет собой в контексте «лейбницеанской» мысли Борхеса реконструкцию мира существ с пониженной степенью восприимчивости. При желании для каждого рассказа или заметки Борхеса можно было бы подыскать «идею», концептуальную структуру, которая в них реали9 зуется, и которые нам хорошо известны из истории философии, мифологии, религии. Однако подобное занятие обречено все же оказаться столь же неплодотворным, сколь занимательным оно представляется на первый взгляд. Рассказы Борхеса (как, впрочем, и всякая настоящая литература) – это именно художественная реальность, и как таковые они бесконечно богаче по своему содержанию, чем «схемы», к которым их можно было бы свести, и которые – если не генетически, то структурно – действительно им предшествуют. Борхес создает особый мир – мир художественно воплощенных абстрактных идей, – и тем самым оживляет их. Примечательно, что источники, которыми он пользовался, очень просты; как правило, это словари и энциклопедии; но в результате – и опять, как и в результате всякой творческой деятельности, – возникают произведения, становящиеся открытиями и для тех читателей, которые, говоря формально, и прежде были хорошо знакомы с их «идеями». Но ведь на самом деле, этот мир – не только мир Борхеса; это мир всей литературы 20 века; действительно интересным в ней было лишь то, что несло «метафизическую» составляющую; речь, повторим, идет о художественном выражении «идей», прежде являвшихся достоянием лишь «абстрактного ума», прежде всего, философии. В результате открылось, что, с одной стороны, философия 1920 веков начала «растворяться» в культуре, а, с другой стороны, сама культура современного человека оказалась зависимой от считавшейся прежде лишь уделом специалистов истории философии. Посмотрим хотя бы на наш язык: мы вряд ли пользовались бы словами, без которых сегодня не можем выразить и самых простых своих впечатлений, если бы когдато их хорошенько не отрефлектировали философы, – возьмем, к примеру, «возможность» и «действительность», «причину» и «следствие», «бытие», «сущность», «субъект» и «объект» и т.д. Сама составляющая основу культуры жизнь языка – естественный процесс, достигающий завершения (предела и совершенства) в творчестве писателей и поэтов, – может рассматриваться как продолжение жизни философии, прервавшейся в начале 19 века, то есть оставшейся в кругу представлений, которые именно тогда были в ней порождены. Таким образом, «конец философии» и «метафизическая революция» в литературе – это, может быть, просто последовательные этапы эволюции европейской культуры, которая вправе свободно выбирать формы для передачи и преобразования своего содержания. Вернемся, однако, к «миру Борхеса». В нем, как и в любимых его создателем энциклопедиях, собрано все – все, доступное представлению и мысли; это свободное движение в пространстве представления, движение, не отягощенное вопросом о «существовании», с помощью которого, якобы, можно было бы различить «реальность» и «вымысел», и есть, собственно, «метафизика»; автор в нем – герой, а герой – автор;
книга – жизнь, а жизнь – книга1; Библиотека – Вселенная, а населяющие ее существа ... живут лишь потому, что, кажется, имеют основания надеяться, что их истории будут прочитаны. Знакомый оборот? – «Ваш роман прочитали, – заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, – и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя». – Конечно, в русской культуре абстрактные идеи никогда не играли такой роли, которую они играли в западноевропейской культуре. Даже в той интеллектуальной традиции, которую принято называть «русской философией», художественный элемент, «стиль» не был чемто менее значимым, чем собственно мысль2. И все же завершающая роман М.А. Булгакова – сводящая «два романа» в один – встреча автора с созданным им героем убеждает в том, что и этот роман – вовсе не является «вневременным»; это роман вполне «современный», да к тому же еще и несомненно «русский», – «идея» в нем в принципе не может быть вырвана из всей художественной ткани, в отличие, например, от знаменитой «Игры в бисер» Гессе; поэтому и будут неизбежно терпеть неудачу все попытки «вычленить» «философию» романа М.А. Булгакова. Он являет сознание своего времени: «вымысел» и «реальность» обращаются друг в друга в нем так же легко, как и в мифологическом (древнем и сказочном) сознании, а это чрезвычайно характерно как раз для «современной» литературы, воспринявшей от классической философии трансценденталистское понимание соотношения бытия и определенности, «реальности» и вымысла. Замыкая известный нам круг развития культуры, литература 20 века преодолевает составившее основу всей европейской философии разделение субъекта и объекта и последующее рассудочное конструирование связи между ними. Сон и явь, вымысел и реальность снова оказываются чемто единым – движением образов сознания, определенностью сконструированного сознанием и пребывающего в нем предмета. И в нашем романе тоже нет ни вымысла, ни реальности, в нем просто совпадают жизнь и книга, Вселенная и Библиотека, – вспомним, что Мастер, когда к нему пришла удача, превратил свой подвальчик именно в библиотеку; оба ряда являют себя лишь как 1 У Кортасара, писателя, открытого Борхесом, в одном из рассказов читатель в процессе своего чтения пробуждает ревность героя и становится его жертвой, и эта встреча оказывается роковой не только для читателя, но и для героя, – ибо кто же теперь сможет его увидеть; а сновидица, отправляющаяся из БуэносАйреса в Будапешт, чтобы помочь страдающей героине своих снов («дальней»), находит в ней себя и видит «себя прежнюю» ... уходящей прочь ... «Борхес» – не только новый «способ письма», новая «литература»; «Борхес» – это резюме истории европейской интеллектуальной культуры; и как во всяком итоге, как в достигнутой наконец «прекрасной простоте», все элементы повествования у него легко и беспрепятственно перетекают друг в друга, не теряя при этом своей индивидуальности.. 2 Обратим внимание на замечательную статью С.С. Аверинцева ««Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева» – Вопросы философии, 1993, № 9. – С. 1622.
движения определенности – речь, письмо, «дискурс». Недаром Иешуа утверждает, что Марк Крысобой изменился бы, если бы с ним удалось «поговорить» (неумышленный «этический рационализм», конечно, совершенно «неисторический»), а Понтию Пилату показалось, что он «чегото не договорил с осужденным, а может быть, чегото не дослушал»; Воланд говорит Маргарите, что за страдающего Понтия Пилата не надо просить, «за него уже попросил тот, с кем он так стремился разговаривать»; это искреннее стремление и даже страсть прокуратора – слушать и говорить, понять и быть понятым, – становится основанием для того, чтобы простить даже трусость, «самый тяжкий порок». Даровать прощение герою, освободить его от тяжелой памяти и позволить ему убедить себя в том, что «казни не было», может, естественно, только его создатель; Воланд говорит Мастеру, что закончить свой роман он может теперь и одной фразой: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» И освобожденный узник двенадцати тысяч лун стремится вернуться в сотворенную Мастером реальность, к беседе с Иешуа, прерванной порывом «трусости» – некой «инерцией мышления» римского прокуратора, – зачем? – чтобы исправить ее, или себя в ней, чтобы – готовьтесь! – переинтерпретировать ее, или создать ее заново; он, созданный в ней как ее участник, завоевал ее своим страданием, – в точности так же, как прежде завоевали мир последователи его собеседника. (В рассказе Борхеса «Другая смерть» Бог из сострадания к одному из воинов, проявившему трусость в битве, позволяет ей повториться еще раз – и кающийся в трусости геройски погибает.) А Мастеру незачем «гнаться по следам того, что уже окончено»; созданная им реальность (совсем по канонам феноменологии) оказывается теперь во власти интерпретаторов; и вернуться в город с «разбитым в дребезги солнцем в стекле» Мастер и его подруга также не могут, их отчуждение от мира венчает то, что в нем называют смертью. Его удел – покой, «реальность» (как замечательно все же, что язык дарит нам такие онтологически нейтральные слова!) постисторическая и трансцендентальная, лишенная какого бы то ни было «существования» и не нуждающаяся в нем; «покой» Мастера – это последнее, оказавшееся художественным образом выражение старой философской мечты о «тождественном себе», которое в ходе истории философии было полностью перенесено в сферу сознания (трансцендентализм) и художественно в ней преобразовано; как и философские «истины» прежних эпох, это чувство неведомо «посюсторонним жильцам», – лишь в ночь весеннего полнолуния, когда луна начинает неистовствовать и обрушивает на город потоки света, оно снова зовет к себе одинокого свидетеля несостоявшейся истории.
Похожие