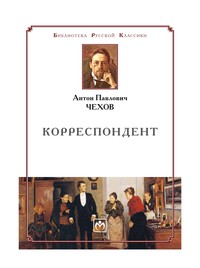Корреспондент
Покупка
Основная коллекция
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Автор:
Чехов Антон Павлович
Год издания: 2013
Кол-во страниц: 16
Дополнительно
Вид издания:
Художественная литература
Артикул: 616418.01.99
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.01: Филология
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
А.П. Чехов КОРРЕСПОНДЕНТ Москва ИНФРА-М 2013
УДК 822 ББК 84 (2 Рос=Рус) Ч 56 Чехов А.П. Корреспондент. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 16 с. – (Библиотека русской классики). ISBN 978-5-16-007155-8 © Оформление. ИНФРА-М, 2013 Подписано в печать 25.12.2012. Формат 60x88/16. Гарнитура Newton. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15,0. Уч.изд. л. 18,72. Тираж 5000 экз. Заказ № Цена свободная. «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1 Тел.: (495) 3800540, 3800543. Факс: (495) 3639212 E-mail: books@infra-m.ru http://www.infra-m.ru
КОРРЕСПОНДЕНТ Музыкантов было восемь человек. Главе их, Гурию Максимову, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в восемь часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров; полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на труппы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с сорока четырьмя бутылками и со столькими же тарелками; барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос: как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха "ты"? Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью черняевский марш... Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была донельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки... Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф... С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальной; за ними погнался встревоженный лакей. Дьякон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что "это одна только глупость". Городской голова вообразил, что у него пропали часы; он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят сто рублей. У невесты разболелась голова... В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не по-старчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что. Рассказывали анекдотцы, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалясь на кресле, и говорил: "И вы тоже хороши, сукины сыны; знаю я вас хорошо и любашкам вашим не раз презенты подносил"... Пробило два часа. Гурий в седьмой раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт. - Погляди, Егорий! - зашамкал один старичок, обращаясь к хо зяину и указывая в угол.- Что это там за егоза сидит? В углу, возле этажерки с книгами, смиренно, поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном
сюртуке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся. - Это, братцы мои,- сказал он,- газетчик. Нешто вы его не знае те? Великолепный человек! Иван Никитич,- обратился он к старичку со светлыми пуговицами,- что же ты там сидишь? Подходи сюда! Иван Никитич встрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился. - Это, господа, сам писатель, журналист! - продолжал хозяин. Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат. Иди выпей - грех ведь! Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил се бе рюмочку водки. - Дай бог вам...- пробормотал он, медленно выпивая рюмку, чтоб все... этак хорошо... обстоятельно. - Закуси, брат! Кушай! Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли. - Солоней будет, червячки не заведутся! - сказал он. Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел. - Да ты не обижайся! - сказал толстяк.- Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! - Толстяк взял со стола соложу и сыпнул себе соли на голову. - И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться? - сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку. - Что ж ты, политикан, не пьешь? - сказал хозяин.- Пей! Давай пить со мной! Нет, со всеми выпьем! Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку. - С меня бы довольно,- проговорил он, обращаясь к хозяину.- Я уже и так пьян-с. Ну, дай бог вам, Егор Никифорыч, чтобы... все... хорошо и благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нешто я человек? Хи-хи-хи-с. Ну, дай бог вам! Егор Никифорыч, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит... За ваше здоровье!
- Пущай барабанит,- сказал хозяин.- Нешто музыка без бараба на может существовать? И того не понимаешь, а еще сочинения сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей! Иван Никитич икнул и засеменил ножками. Хозяин налил два стакана. - Пей, приятель,- сказал он,- а прятаться не смей. Будешь пи сать, что у Л-ва все пьяны были, так про себя пропишешь. Ну? Желаю здравствовать. Да ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей! Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином. - Желаю вам зла-погибели и бед всяческих... избежать! - со стрил купчик; старший зять хозяина захохотал. - Ура-а-а газетчику! - крикнул толстяк, обхватил Ивана Ники тича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы, на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной т-й интеллигенции. - Кач... ка-ча-а-ай! Качай его, шельмеца! Неси егозу! Тащи его, темно-зеленого прохвоста! - закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты, лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись "безобразности" и преглупо захихикали в свои аристократические кулаки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но... блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, "нолика", как он выражался, "между человеками еле видимого и едва заметного"... - Гаа-га-га-га! - заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук т-й интеллигенции и ухватился за шею толстяка с серебряною медалью. - Убьюсь,- забормотал он,- убьюсь! Позволь те-с! Муточку-с! Вот так-с... Ох, нет, не так-с! Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.
- Господа почтенные! - заговорил он слабым тенорком, расставя руки и поправляя ремешок,- господа почтенные! Дай бог вам всего того, чего вы от бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему... вот ему, Егору Никифоровичу... Не пренебрег мелким человечиком. Встретились это мне позавчера в Грязном переулке, да и говорят: "Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи!" Не пренебрегли, дай бог им здоровья. Осчастливили вы меня своею лаской искреннею, не забыли газетчика, старикашку рваного. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и богом для полезности отечественной созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим... - Чего мелешь-то? - закричал хозяин.- Замолол, шут Иванович! Ты речь читай! - Речь, речь! - заголосили гости. - Речь? Эк-эк-гем. Слушаю-с. Позвольте подумать-с! Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу: - Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас событию. Эк-эк-гем. Великий поэт сказал: блажен, кто смолоду был молод! В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события: да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто смолоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется во едино чистое, доброе и высокочестное, и да послужит нежно любящая... хихи-хи-с... так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию! Виват, живио и ура-а-а! Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.
- Ловко, ловко, Иван Никитич! - закричали гости. Жених подошел, шатаясь, к Ивану Никитичу, попытался рас шаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал: - Боку... боку мерси1. Ваша речь очен-н-но о-чень хороша и не лишена некоторой тен-тенденции. Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя. - Ловко вы объяснять чувства можете! - сказал толстяк с меда лью.- У вас такая фигура, что... никак не ожидал! Право... извините-с! - Ловко? - запищал Иван Никитич.- Ловко? Хе-хе-хе. То-то. Сам знаю, что ловко! Огня только мало, ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные! Прежде, бывало, как скажешь что иль напишешь, так сам в умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко! Выпить бы нужно, фра-дьяволо, за это времечко! Давайте, други, выпьем! Времечко было страсть какое авантажное! Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич пре образился. Он налил себе не рюмку, а стакан. - Выпьем, господа почтенные,- продолжал он.- Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был! Славное было времечко! Mesdames, красоточки мои, чокнитесь с аспидом и василиском, который красоте вашей изумляется! Цок! Хе-хе-хе. Амурчики мои. Было время, сакрраменто!2 Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура-а-а! - Было время,- продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич,было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата, газетчика, то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде что ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще... эк... эк... гем... гласности? Ниг-де!!! Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступать на путь славных,- путь, принадлежащий пророкам, 1 Премного благодарен (франц. merci beaucoup). 2 клянусь! (итал. sacramento).
правдолюбцам да среброненавистникам. Судари вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, да ходить по нем некому. Где таланты истинные? Поди ищи: ей-богу, не сыщешь!.. Все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правдой, а нонче пошла погоня за словцом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было! Дух странный повеял! Горе, друзья мои! И я тоже, окаянный, не устыдился седин своих и тоже стал за красным словцом гоняться! Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю господа, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т. такого-то числа землетрясение было да баба Акулина, извините меня, mesdames, бесстыдника, намедни единым махом шестерых ребят родила... Сконфузились, красоточки! Простите великодушно невежду! Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал. Простите, родные! Ох-хохо... так-то, пиши что хочешь, все с рук сойдет. Прежде не то было! Мы если и писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыней почитали и оной поклонялись! - Зачем это вы светлые пуговицы носите? - перебил Ивана Ни китича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове. - Светлые пуговки? Действительно, что они светлые... По при вычке-с... В древности, лет 20 тому назад, я заказал портному сюртучишко; ну, а он, портной-то, по ошибке пришил вместо черных пуговок светлые, Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишко лет семь таскал... Ну, так вот-с, сударики мои, как прежде было... Слушают красоточки, голубчики, слушают меня, старикашку, родненькие... Хи-хи-хи-с... Дай бог вам здоровил! Красавицы мои неземные! Жить бы вам сорок лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы, девицы, и на коленах дырки бы себе... Смеются, цветики!.. Ох, вы, мои... Почтили старца вниманием своим. - Вы теперь пишете что-нибудь? - перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня. - Пишу ли? Как не писать? Не зарою, царица души моея, талан та своего до самой могилы! Пишу! Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в семьдесят шестом году корреспонденцию в "Голосе" поместил? Кто? Не читали разве? Славная корреспонден
ция! В семьдесят седьмом году писал в тот же "Голос" - редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной... Хе-хе-хе... Неудобной... Экася!. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. "У нас,- пишу,- есть патриоты видимые, но темна вода во облацех касательно того, где патриотизм их помещается: в сердцах или карманах?" Хе-хе-хе... Душок-с... Далее: "Вчера,- пишу,- была отслужена соборная панихида по под Плевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина исправляющего должность т-го полицеймейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости". Не в бровь, а в глаз! Хо-хо-хо! Не поместили! А я уж постарался тогда, друзья мои! В прошедшем, семьдесят девятом, году посылал корреспонденцию в газету ежедневную "Русский курьер", в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром "Курьера русского" получаю. Вона как! Удивляетесь? Гениям удивляйтесь, а не нолям! Нолик есмь! Эхе-хе-х! Пишу редко, господа почтенные, очень редко! Бедна наша Т. событиями, кои бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется, самолюбив больно, да и совести своей опасаюсь. Газеты вся Россия читает, а для чего России Т.? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то как я писал, прежде-то, во времена оны, во времена... Писал я тогда в "Северную пчелу", в "Сын отечества", в "Московские"... Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул... Хе-хе-хе... Не верите? Ей-богу! Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал... А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только богу Саваофу известно... Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцом и удальцом был! Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал. В сорок шестом году за корреспонденцию, помещенную мною в "Московских ведомостях", здешними мещанами так избит был, что три месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил: так отдубасили раба божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня, в 53-м году, городничий здешний, Сысой Петрович... Вы его не помните и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сем человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: "Что это ты там в "Пчеле" накляузничал, а?" А как я там накляузничал? Писал я,
знаете ли, просто, что у пас шайка мошенников завелась и притоном своим трактирчик Гуськова имеет... Трактирчика этого теперь и следа уже нет, в 65-м году снят был и место свое бакалейному магазину господина Лубцоватского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли: "Не мешало бы, в силу упомянутых причин, полиции обратить внимание на трактир г. Г.". Заорал на меня и затопотал ногами Сысой Петрович: "Без тебя не знаю, что ли? Указывать ты мне, морда, станешь? Наставник ты мой, а?" Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел, Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая... Не забыть мне сего до помрачения памяти моей! Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка - никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так уничижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! А то как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал; а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли; раз свистнет, да в другой раз, да и в третий... Тьфу ты, пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой... Публично!! За что? За какую вину? И это перенес я со смирением... Много терпел я, друзья мои! Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похло пал по плечу Ивана Никитича. - Пиши,- сказал он,- пиши! Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь? - В "Голос", Иван Петрович! - Прочесть дашь? - Хе-хе-хе... Всенепременно-с. - Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать ста нешь? - А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию по жертвуют, то и про них напишу! Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, ус мехнулся и покраснел. - Что ж, напиши! - сказал он.- Я пожертвую. Отчего не пожерт вовать? Тысячу рублев могу... - Нуте? - Могу. - Да нет?