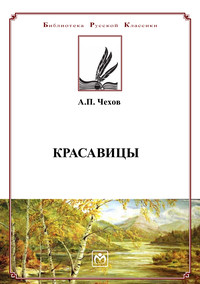Красавицы
Бесплатно
Основная коллекция

Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Автор:
Чехов Антон Павлович
Год издания: 2015
Кол-во страниц: 7
Дополнительно
Вид издания:
Художественная литература
Артикул: 627740.01.99
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.01: Филология
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Б и б л и о т е к а Р у с с к о й К л а с с и к и А.П. Чехов КРАСАВИЦЫ
А.П. Чехов КРАСАВИЦЫ Москва ИНФРА–М 2015 2
I На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. – Посмотрите на него: не правда ли, в нем что–то есть? – говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой – прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем–нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант–иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существова 3
нии каких–то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, – среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола. Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами. – Нет, вы послушайте! – говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. – Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка–отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг – здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по caмue уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг – бац! сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что–то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! – крикнула она мужу. – Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями. Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал: – Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш? 4
II В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе. На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходившего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось. Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой–нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и не надолго. – Что вы тут смотрите? – спросил я. Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17–18, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой–то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда–то в армянской деревне. Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее. Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, всё же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надоб 5
ности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть. Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на споем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях. Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль. – Тэк–с... – пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону. А что значило это «тэк–с», не берусь судить. Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал: – Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться – выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастие, какая насмешка, быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же 6
время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка! Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом также далеко, как до неба. Пробил третий звонок, раздались свистки и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски– лукавой улыбкой... Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошлась по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне. Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.