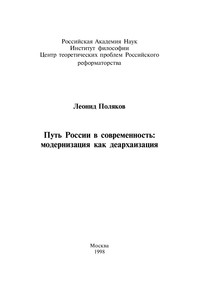Путь России в современность: модернизация как деархаизация
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Политология
Издательство:
Институт философии РАН
Автор:
Поляков Леонид Владимирович
Год издания: 1998
Кол-во страниц: 203
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 5-201-01969-2
Артикул: 612503.01.99
Монография представляет собой социально- философское исследование процесса российской модернизации, начальная фаза которого датируется серединой XVII века, а завершающая — концом XX века. Автор показывает, что процесс осовременивания России – это не только и не столько «вестернизация », сколько преобразование собственной архаики с помощью механизма чередования социальных сдвигов и кризисов национальной идентичности. Реформация как деархаизация ставит Россию в конце XX в. «на пороге» Современности. Книга рассчитана на социальных философов, историков России, политологов.
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Российская Академия Наук Институт философии Центр теоретических проблем Российского реформаторства
Леонид Поляков
Путь России в современность: модернизация как деархаизация
Москва
1998
ББК 15.5
П 54
В авторской редакции
Рецензенты:
доктор филос. наук Т.А.Алексеева кандидат филос. наук С.Н.Зимовец
доктор филос. наук Б.Г.Капустин
П 54 Поляков Л.В. Путь России в современность: модернизация как деархаизация. — М., 1998. - 202 с.
Монография представляет собой социально-философское исследование процесса российской модернизации, начальная фаза которого датируется серединой XVII века, а завершающая — концом XX века.
Автор показывает, что процесс осовременивания России — это не только и не столько «вестернизация», сколько преобразование собственной архаики с помощью механизма чередования социальных сдвигов и кризисов национальной идентичности. Реформация как деархаизация ставит Россию в конце XX в. «на пороге» Современности.
Книга рассчитана на социальных философов, историков России, политологов.
ISBN 5-201-01969-2
©Л.В.Поляков, 1998
©ИФРАН, 1998
Предисловие
Сегодня в нашей стране напрасно искать «единства и согласия». Но расходясь во многом мы можем согласиться в главном. В признании того, что все мы являемся не просто свидетелями, но самыми непосредственными участниками процесса рождения принципиально новой социальной, политической, экономической и духовной реальности — государства «РОССИЯ». Мы все — вольные или невольные, сознательные или бессознательные — творцы России.
При этом мы должны найти средний путь, ту меру в определении наших возможностей, которая позволила бы избежать как революционного соблазна «творения из ничего», так и пессимистического фатализма, чувства обреченной приговоренности к вечной неудаче в деле российского реформаторства.
Во времена великих исторических разломов, смены эпох, разрыва традиций встает закономерный вопрос: а зачем вообще рвать с прошлым?
И закономерно ностальгия по прошлому становится не просто предметом академических исследований, а одним из самых весомых фактов нашего общественного бытия, влияющих на контуры формирующейся российской демократии.
Возврат в доперестроечное прошлое — эта идея оказалась созвучной умонастроениям и душевному смятению внушительной части российского электората. В результатах федеральных парламентских и региональных (думских и губернаторских) выборов 1993—1997 гг. обнаружила себя закономерность значительно более глубокая, нежели удачные тактические находки избирательных блоков или виртуозные демагогические способности отдельных политиков. По существу, мы наблюдаем массовое «бегство от свободы» (если использовать определение Эриха Фромма) в прежние обжитые, «насиженные» и при всех «но» — все-таки уютные истор ические, культурные и, что особенно важно, психологические ниши .
Почему же это «бегство» имеет столь ярко выраженную направленность — «назад», «в прошлое»? Неужели нет других вариантов?
Объяснений этому несколько. Во-первых, неосвоенность нашего исторического прошлого, наличие огромного числа «белых пятен». Это имеет особую привлекательность как «свое», «родное», но еще неизведанное. Неслучаен ведь подлинный ренессанс отечественной религиозно-философской традиции так называемого «серебряного века». Неслучаен растущий интерес к советской истории,
3
которую мы еще только привыкаем рассматривать «без гнева и пристрастия».
Во-вторых, происходит не просто очередная «реформа» в России, а радикальный исторический сдвиг. Россия «модернизируется», входит в современный мир, а в этот переломный, кризисный момент активизируются все ранее накопленные виды и формы «национального» самосознания.
Разгадка смысла отечественной культурной традиции — это сложнейшая работа национального самопознания. Только через нее существует и продолжает себя национальное самосознание.
В своем подходе к истории отечественного самосознания я постарался применить идеи таких классиков социального анализа, как французский социолог Эмиль Дюркгейм, русский философ и этнопсихолог Густав Шпет, родоначальник психоанализа Зигмунд Фрейд и наш современник, философ Поль Рикер.
Я рассматриваю историю становления национального сознания в России как цепь кризисов, обусловленных эволюцией российского общества от типа архаичного и традиционного к современному. Начальным этапом этой эволюции оказывается первый серьезный кризис национальной идентичности, принявший форму церковного раскола во второй половине XVII в.
Одним из основных признаков архаичного общества является наличие в нем целостного и монолитного «коллективного сознания». Оно есть одновременно и форма «самопознания» или точнее — «самопредставления», и способ отношения к внешнему миру, т.е. общения с другими культурными мирами. Как только в этом коллективном сознании появляется «трещина», «раскол», т.е. инакомыслие, принимающее массовые формы, мы можем говорить о первом кризисе традиционного общества, о начале его дрейфа в сторону общества современного типа.
В языке социальной науки определение «современный» используется в особом смысле. Оно не означает сосуществование во времени. Оно описывает фундаментальное различие между типами обществ, которые могут существовать в одном времени, а могут относиться к разным эпохам.
Существует несколько определений «современного» общества. В данной книге использован подход Э.Дюркгейма, который предложил традиционные общества рассматривать как построенные на принципе «механической солидарности» (или «солидарности по сходствам»), а современные — на принципе «органической солидарности», т.е. на принципе всепроникающего разделения труда.
4
Принцип простой и достаточно эффективный. Он позволяет зафиксировать главное — традиционные общества представляют собой механическое умножение одной исходной «социальной клеточки» (например — «общины») до размеров государства. Такой способ построения общества гарантирует его принципиальную неизменность, неподверженность исторической эволюции. Современные общества включают в себя разнородность как условие своего существования и практически бесконечных самоизменений.
Однако в рамках традиционного общества, особенно попадающего под влияние обществ, уже совершивших переход к современному типу, также возможна своеобразная «эволюция». Если угодно, ее можно назвать катастрофической. Некоторые исследователи российской истории тяготеют к ее пониманию как циклической, воспроизводящей одни и те же тупики и проблемы и в конечном счете — даже невозможность выхода из них.
Я предпочел бы называть такую эволюцию кризисной, имея в виду, что кризис есть состояние неопределенности и открытости. Его проживание (т.е. преодоление — в случае, когда данное общество не разрушается) позволяет продвинуться традиционному обществу на пути трансформации в современное.
Центральным тезисом книги является утверждение о том, что мы, россияне, в декабре 1991 г. обретшие свое собственное государство, пересекаем невидимую границу, отделяющую Россию «традиционную» от России «современной». Это — грандиозная психологическая мутация, сопоставимая в истории биологической эволюции с выходом амфибий на сушу. Мы все несем в себе черты и свойства этой переходности, и эта наша «мутантность» — нелегкое бремя. Но особенно тяжело тем, кто психологически осознанно совершил разрыв с прошлым (необязательно «проклятым»). Ведь таким — возвращаться некуда!
Уже очевидно, что у того слоя российского общества, который принимает идею радикального реформирования (или просто сжился с ней как с безальтернативной) существует запрос на принципиально новую интегрирующую идеологию, которая смогла бы закрепить формирующуюся нетрадиционную идентичность, а также легитимировать новый тип власти и становящуюся российскую государственность в целом. Такой запрос становится все более ощутимым по мере того, как первичная радикально-реформаторская идеология «тотального неуспеха», успешно выполнявшая важнейшую функцию «негативной мобилизации» вплоть до президентских выборов 1996 г., начинает утрачивать объединяющий и смыслозадающий по
5
тенциал. Ее носители все более маргинализируются как в массовом сознании, так и в кругах нового политического истеблишмента, получая даже от прежних коллег и партнеров презрительную кличку «демшиза».
Образующийся вакуум заполняется двумя идеологемами: «фатального неуспеха» и «реванша». Первая представляет собой не идеологию, а массовое умонастроение разочарования в реформаторстве как таковом, т.е. функционирует в режиме «негативной демобилизации», что и проявляет себя в «деполитизации» и «политической апатии». Вторая может быть описана как своеобразная метаидеология, базируемая на тезисе «национального поражения в третьей мировой войне» и порождающая несколько автономных контр-рефор-мистских идеологий, а по существу — технологий реванша.
Метаидеология реванша ориентирована (в пределе) на вторичную «негативную мобилизацию», т.е. на борьбу против «антинародного режима» «разваливших Союз» «демократов».
Синхронизация двух контр-реформистских идеологем дала бы взрывной эффект, и «антидемократическая» революция уничтожила бы (физически — скорее всего) и властные структуры, и политические группы, ассоциируемые с противостоянием августовскому путчу, Беловежским соглашением о денонсации договора об образовании СССР, экономической («гайдаровской») реформой и подавлением попытки октябрьского переворота. Такой синхронизации, однако, препятствует внутренняя расчлененность реваншистской идеологемы, ее представленность в виде четырех автономных идеологий, представляющих в сегодняшнем российском самосознании пройденные в ходе исторической эволюции последних трех веков идентификационные кризисы.
Первый кризис связан с церковным расколом XVII в. и представлен в сегодняшнем идеологическом спектре консервативно-фундаменталистским (в рамках православия) течением, наиболее удаленным от злободневной политики (с некоторыми, разумеется, исключениями). Второй кризис связан с опытом проживания (и изживания) неограниченного самодержавия и представлен сегодня течениями, превращающими саму власть — в ее максимально-авторитарном виде — в идеологию как таковую. Третий кризис имел место в виде идентификации «русскости» как «коммунизма» и сегодня представлен в основном в форме «национал-большевизма» КПРФ. Четвертый и последний кризис связан с переходом социума в режим пространственной экспансии и одномоментным отказом от территорий, традиционно считавшихся если и не «русскими», то в специ
6
фически «имперском» смысле «своими» (период 1989_1991 гг.). Сегодня он идеологически представлен в «русском» этно-империализме и шовинизме.
Все эти четыре базисных идеологии современного российского социума пронизаны (в разной степени) умонастроениями «реконкисты» и поощряют ирредентизм «соотечественников» в ближнем зарубежье. Такая привязка базисных оппозиционных идеологий к «вымышленным» (идентифицированным в качестве «наших») пространствам и временам создает чрезвычайно неблагоприятный контекст для стабилизации и профессионализации российского политического процесса. И самым негативным образом сказывается на персональном составе и эносе оппозиционного российского политического истеблишмента.
Каждая из вышеописанных идеологий представляет собой своего рода коммуникативный канал между определенным сегментом российского населения и представляющей (или претендующей на такое представительство) его политической группой (группами). Однако конституционно-правовая форма этой репрезентации в структуре власти (федеральный или региональный парламент) еще настолько нова и непривычна, что она оказывается либо продолжением митинговой площадки популистского демагога, либо местом закулисного (=постыдного) торга.
И то, и другое не только не стабилизирует российский политический процесс, но просто не дает возможности ему начаться как таковому. До тех пор, пока на арене российской политики будут сталкиваться «партии принципов», а не «партии программ», или — «партии программ», но принципиально несовместимых, российский политический процесс обречен на то, чтобы (как правило) производить и воспроизводить не политиков-профессионалов, а профессионально непригодных обитателей пост-советского (по времени, но не по качеству!) «мафиозно-номенклатурного» политического «рынка», развернутого (как и экономический рынок) преимущественно в сферу «финансовых» и «торгово-посреднических» (в политическом смысле) операций.
Говоря о «мафиозно-номенклатурном» политическом рынке, я использую нейтрально-описательное (а не уголовно-идеологически обвинительное) определение, указывающее на структуру оккупировавших политическое пространство «групп интересов», с очевидным доминированием «региональных», «отраслевых» и «финансово-информационных» группировок (не в криминальном — пока еще — смысле), контролирующих властные и материальные ресурсы России.
7
Основная проблема российского «политика» (как индивидуального, так и коллективного — в виде фракции, например), получившего мандат идеологически ориентированного электората, состоит в том, что ему приходится конвертировать этот «идеологический мандат» в поддержку той или иной «группы интересов», для которой идеологические предпочтения, как правило, отнюдь не приоритетны. Это способствует, с одной стороны, позитивному процессу деидеологизации политического рынка, но, с другой стороны, ставит перед политиками проблему подтверждения мандата (если только не допустить, что однажды найденный избиратель всегда будет ставить «на своих»).
Такое изображение российского политического процесса менее всего оказывается чем-то оригинальным и специфическим. В конце концов американские конгрессмены как раз и являются политическими лоббистами, конвертирующими электоральную поддержку в поддержку того или иного «интереса» и стоящей за ним «группы». Аналогичным образом действуют и, скажем, депутаты итальянского парламента (становящиеся членами правительства — в особенности).
Различие и действительная российская специфика состоит в том, что американская и итальянская политические системы обладают столь высокой степенью легитимности, что сама фигура политика-посредника, функционера «своей» партии, обслуживающего круг более или менее определенных «интересов», уже не вызывает системного кризиса. Или если очертания такого кризиса начинают вырисовываться, то «система» либо обнаруживает дополнительные ресурсы защиты (как в случае с внесистемным Россом Перро в США), либо легко адаптируется к новому «вызову» (как в случае с Сильвио Берлускони в Италии).
Наличный политический режим России нередко характеризуется как «номенклатурная демократия». Под этим определением имеется в виду тот факт, что в результате «революции замов» власть перешла в руки «второго эшелона» бывшей партсовхозноменклату-ры со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Однако в этой гиперкритицистской схеме оставлен без внимания вопрос о генезисе этого типа власти, решающий для понимания ее природы и функций. Иными словами, обличительный пафос определения подавляет его объяснительный потенциал, превращая того, кто его использует, скорее в переживающего моралиста, но не в объективного исследователя.
8
Первое, что упускается при морально-обличительном подходе, это тот факт, что сложившаяся в России гипертрофия «исполнительной» власти есть следствие длительной борьбы Президента (как представителя принципа республиканско-демократического устройства России) с системой советов и съездом народных депутатов как «коллективным диктатором», обладающим неограниченными полномочиями (право рассматривать и решать «любой вопрос», право менять конституцию простым голосованием). Пирамида исполнительной власти (начиная с премьера и кончая главами районных администраций) в целом выступила на стороне Президента в политической фазе демонтажа коммунистического режима в России, и потому неизбежна ее доминация в рамках «инерции победы».
Второе обстоятельство, закрепляющее и усиливающее эту «инерцию» — результат выборов в Федеральное собрание, сначала не принесший очевидного перевеса ни одной из партий, а затем придавший реальность угрозе коммунистического реванша. Возникшая таким образом взаимонейтрализующая констелляция думских фракций и ничейно-патовая ситуация в Совете Федерации означает невозможность эффективного контроля законодательного органа над «исполнительской» вертикалью. Но это, в свою очередь, есть лишь наиболее наглядное выражение общеполитической ситуации в России, характеризующейся отсутствием какой-либо одной доминирующей силы, способной монополизировать народное представительство и, таким образом, контролировать (точнее — оказывать эффективное давление на) правительство.
И третье (по счету, но не менее важное по значимости) обстоятельство: именно исполнительная власть является (и уже традиционно воспринимается обществом) инициатором экономической реформы и инстанцией, ответственной за ее осуществление.
В настоящий момент столь очевидная доминация исполнительной власти определяется главным образом третьим фактором. А именно, правительственные структуры осуществляют (по крайней мере — призваны это делать) уникальную трансформацию социалистического «народного хозяйства» в рыночную конкурентную экономику. По существу это означает самоликвидацию традиционно-советского «правительства завхозов», однако самоликвидацию, обусловленную во времени двумя решающими факторами.
Во-первых, это необходимость поддерживать минимальный уровень стабильности системы в период (с неопределенной длительностью) ее перехода в принципиально иной режим функционирования. Поддержание стабильности обеспечивается: традиционным
9
сырьевым экспортом; иностранными займами; сбором налогов; денежной эмиссией (включая отсроченную — в форме государственных ценных бумаг).
Основное противоречие, с которым постоянно сталкивается правительство — необходимость выбора между инвестированием в «производство» (проблема «спада») и сдерживанием инфляции. За этим противоречием кроется центральная проблема всей экономической реформы — ситуационно обусловленная «бедность» страны, определяемая такими параметрами, как отсутствие инвестиционного капитала и малоемкость потребительского рынка.
Во-вторых, самоликвидация «советского правительства» осуществляется в режиме денационализации средств производства и уступки прав предпринимательской деятельности. В ходе этого процесса складывается порочный круг взаимообмена между сообществом чиновников, конвертирующих свою распорядительную власть над бывшей «общенародной собственностью» в реальную личную собственность, и сообществом предпринимателей, инвестирующих свой капитал в пирамиду власти с целью приобретения собственности и прав предпринимательства.
В силу явной криминальности приращенного в рамках этого симбиоза капитала единственная естественная и сравнительно безопасная сфера его приложения — вывоз заграницу и оставление его там до определенного момента. Этот момент — начало реальной денежной приватизации.
В ситуации реальной приватизации в России капитал, совместно произведенный коррумпированным чиновником и мафиозным предпринимателем, находит новое поле приложения, гораздо более прибыльное, нежели помещение в иностранные банки. При этом основная проблема российской экономической реформы оборачивается для этого капитала колоссальным преимуществом.
Нужда в инвестициях (определяющих в конечном счете социальный климат в стране) настолько остра, а потребительский стандарт столь низок, что при отсутствии конкурентов основные производственные фонды, выставленные на продажу, могут быть скуплены по монопольно заниженным ценам.
Именно борьба за контроль над процедурой продажи сначала высокодоходных, затем просто доходных, а в конечном счете — в перспективе доходных «предприятий» и становится реальным содержанием российского политического процесса. Значит ли это, что проблема общероссийской идентичности, поиск общенационального образа вытеснены из пространства реальной политики и что по
10