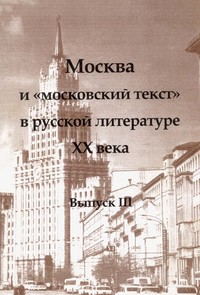Темы «большого города» и «нового искусства» в поэзии и прозе позднего Б. Пастернака
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Литературная критика
Издательство:
Московский городской педагогический университет
Год издания: 2007
Кол-во страниц: 8
Дополнительно
Вид издания:
Статья
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-243-00215-8
Артикул: 616937.01.99
Доступ онлайн
В корзину
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
- Аспирантура
- 45.06.01: Языкознание и литературоведение
- Адъюнктура
- 45.07.01: Языкознание и литературоведение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
УДК 882.09 ББК 84.3(2РОС)6я43 М82 Печатается по решению Редакционно-издательского совета МГПУ Работа рекомендована к печати Научно-методическим советом МГПУ Редактор-составитель: доктор филологических наук, профессор Н.М.Малыгина Рецензенты: кандидат филологических наук, доцент И.И.Матвеева, доктор филологических наук, профессор Т. Т.Давыдова М82 Москва и «московский текст» в русской литературе XX веке. IX Виноградовские чтения: Материалы международной научной конференции. (Москва, 11-12 ноября 2005 года) / Ред.-состав.: Н.М.Малыгина. — М.: МГПУ, 2007,— 122 с. Для филологов, преподавателей, аспирантов и студентов филологических факультетов вузов, учителей-словесников. Основу сборника составляют материалы IX Виноградовских чтений. В статьях рассматривается «московский текст» в творчестве писателей XX века: А.И.Куприна, И.С.Шмелева, А.П.Платонова, О.Э.Мандельштама, Н.И.Ко- чина, Б.Л.Пастернака, Ю.В.Трифонова, Т.Толстой, ЛЕ.Улицкой, М.Я.Козы- рева, Саши Соколова, Ю.Кублановского. Ответственность за достоверность изложенных фактов, аутентичность цитат, правописание и стиль, правильность оформления библиографии, соблюдение закона об авторском и смежном праве несут авторы включенных в настоящий сборник статей. ISBN 978-5-243-00215-8 © МГПУ, 2007.
Доступ онлайн
В корзину