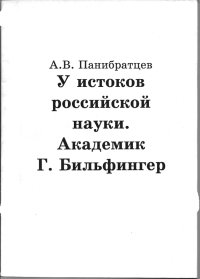У истоков российской науки. Академик Г. Бильфингер
Покупка
Тематика:
История. Исторические науки
Издательство:
Когито-Центр
Год издания: 1999
Кол-во страниц: 180
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 5-89353-023-3
Артикул: 728557.01.99
Доступ онлайн
В корзину
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
А.В. Панибратцев У и ст о к о в р о сси й ск о й н а у к и . А к а д е м и к Г . Б и л ь ф и н ге р Издательство КОГИТО-ЦЕНТР 1999
ББК 87.3П.-16 Андрей Викторович Панибратцев У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ НАУКИ. АКАДЕМИК Г. БИЛЬФИНГЕР Утверждено к печати ученым советом Института философии РАН 7 декабря 1999 года Научные рецензенты д.филос.н. Маслин М.А., д.филос.н. Жучков В.А. Издание книги осущетвлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 98-03-04261А Подписано в печать 23.12.1999 Гарнитура «SchoolBook». Формат 60x90/16. Объем 11,25 уcл. печ. л. Тираж 500 экз. ISBN-5-8953-023-3 Издательство «Когито-Центр» ЛР №064615 от 03.06.96 101000, Москва, Мясницкая, 22-2-5
ВВЕДЕНИЕ Прежде чем предложить благосклонному вниманию читателя эту книгу, хочу заметить, что она ни в коей мере не являет собой законченный результат моих исследований. Сказать вернее, труд этот — один из промежуточных этапов, со всеми присущими подобным этапам недочётами и недостатками. Заранее прошу у читателей за это прощения. Приступив более пятнадцати лет тому назад к изучению философских курсов Славяно-греко-ла- тинской академии1, я уже тогда чувствовал всю недостаточность подобных исследований, поскольку невозможно даже набросать лёгкий абрис генезиса российской науки и становления академической философии в России, если не принимать во внимание деятельность Санкт-Петербургской Академии наук. Данное исследование — не более чем скромная часть серьёзной работы, которая, если фортуна будет ко мне благосклонна, должна будет найти воплощение в двух трудах, а именно: “Становление академической философии в России” и “У истоков российской академической науки и образования” (полный вариант). В случае со Славя- но-греко-латинской академией основное внимание мною было уделено творчеству Феофилакта Лопатинского, наиболее репрезентативной фигуры в академическом образовании России петровского времени. Санкт-Петербургская Академия наук, разумеется, могла похвастать гораздо большим количеством блестящих учёных, нежели московская академия. Из их числа я остановился на творчестве академика Г. Бильфингера, учёного мирового класса, который стоял у истоков российской науки. Ограничение исследование одной, пускай и весьма репрезентативной фигурой, объясняется недостаточной степенью изученности материалов, собственно философских и научных текстов. Их, как мне представляется, необходимо вводить в научный оборот. Трудность заключается в том, что основные источники по истории русской философии и науки первой половины XVIII в., сохранившиеся в рукописях и труднодоступных изданиях, на русский язык в сколько-нибудь удовлетворительном объёме до сих пор не переводились2. Ввиду 3
этого приходится одновременно переводить, вводить важнейшие тексты в научный оборот и давать им историко-философскую оценку. Думается, что адекватная историко-философская оценка этих памятников научной мысли — дело будущего. А.В. Панибратцев 1 декабря 1999 г. г. Одинцово. 1 Частичный итог помянутых исследований нашёл выражение в книге: А. В. Панибратцева “Философия в Московской славяно- греко-латинской академии. (Первая четверть XVIII века)”. М.: ИФРАН, 1997. — 152 с. 2 На русский язык переведены покамест пролегомены к философским курсам Феофилакта Лопатинского и введение в его же логический курс, см.: Феофилакт Лопатинский. Избранные философские произведение / Перевод, редакция и вступительная статья А.В. Панибратцева, М.: ИФРАН, 1997. 219 с. 4
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ
В деятельности российского государства реформы, как вид политики, занимают видное место. История России показывает, что в последние три сотни лет страна перманентно находится в состоянии реформ. Преобразованиям различных сторон жизни государства и общества придается вид не решения текущих вопросов, а вид кардинального переустройства, порывающего с практикой предшествовавшего периода. Опыт реформ позволяет, как кажется, выделить российское реформаторство в особый процесс, имеющий свои закономерности. Выделение этих закономерностей, проявляющихся в ходе любых исторических реформ является особенно актуальным в современных условиях. Поэтому важное значение, наряду с работами, исследующими содержание конкретных реформ, получают работы, посвященные реформаторству, как феномену политической культуры, работы, обобщающие теорию и практику российских реформ1. Петровские реформы справедливо занимают особое место среди других преобразований российского государства. Однако для России петровские реформы не были первыми. Едва образовавшись, русское государство стало проводить целенаправленные, рациональные изменения, результатом которых стало принятие христианства. Значение этого шага для развития русского народа трудно переоценить. С усложнением общества изменялся и характер реформ. Преобразования Ивана IV носили уже более системный характер, затрагивали широкий спектр отношений. Круг реформ включал как идеологические преобразования, так и социальные (складывание дворянства, как служилого слоя) и функциональные: административные, военные и т.п. Как и в случае принятия христианства, реформы опирались на идеологические образцы, привнесенные извне. Но связь ограничивалась идеологически близкой византийской политической традицией. 6
Реформы функционального плана выводились в основном из традиций, сложившихся в Московском княжестве. Унификация российских порядков по образцу московских составила основное содержание этих реформ. Это отвечало потребностям складывающегося российского государства. Не случайно современники Ивана Грозного не замечали разницы между ‘‘Российским царством” и “Московским царством”2. Десакрализация идеологии, выразившаяся в обращении к опыту религиозно чуждых идеологических традиций, приводит к осознанию необходимости поисков образцов в других странах, И, как ни странно, начало этому дает сама церковь, искавшая образцы для исправления своих священных книг. С падением Византии, Московская Русь стала утрачивать веру в безусловный авторитет прежних своих учителей — греков, а сомнение ее в благочестии греков, “покосневших от преданного им чина”, подрывало сочувствие к ним и налагало тень и на всю их значительно ослабевшую культуру. Вместе с сомнением в благочестии греков и их учения православные идеологи стали понимать выгоды “философского учения”, связанного с западной, католической традицией. “ Впрочем, стремление к западному латинскому учению, — писал А. С. Лаппо-Данилевский, — вероятно, развивалось и под влиянием чисто утилитарных соображений: в деловых сношениях с иноземцами новгородцы, а затем и москвичи все чаще входили в соприкосновение с европейской культурой и ощущали ее выгоды”3. Таким образом, сама возможность реформ Петра I, их возможный метод и ориентация зародились еще до того, как он стал проводить свои преобразования. Именно в ХѴ П в. определилась будущая ориентация Петра I, когда подражание сделалось основной формой модернизации4. Сходство настроений XVII века и преобразований I четверти ХѴ IIІ века идет дальше абстрактных подходов к реформированию. Необходимость преобразований понимали и предшественники Пе- траі. Осенью 1689 г., накануне своего падения, В.В. Голицын поделился с французским дипломатом Ф. де ла Невиллем собственной программой реформ. Он собирался создать регулярное войско, установить постоянные дипломатические представительства за границей, заставить дворянство путешествовать за рубежом и учиться военному делу, отдавать своих детей в специальное училище, предоставить свободу вероисповедания, отменить откупа и монополии, улучшить положение крестьян5. Донесение иностранного дипломата К. фон Кохена говорит: 7
“Большая Комиссия, или совет, куда призвано по два человека от каждого города или сословия и где председательствует князь Василий Васильевич Голицын, еще не собирался. ... Там хотят окончательно исправить и дополнить Уложение или (собрание) законов”6. Таким образом, можно согласиться с мнением В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова, что “XVII столетие не только создало атмосферу, в которой вырос и которой дышал преобразователь, но и начертало программу его деятельности, в некоторых отношения шедшую даже дальше того, что он сделал”7. В историографии реформ Петра I справедливо выделяют по крайней мере два периода в их проведении. Первый период приходится на начальную, “лихорадочную” часть войны, когда внутриполитические реформы имели в основе своей непродуманные и временные решения ad hoc8. Как пишет исследователь деятельности Петра I В.И. Буганов: “Преобразования, проведенные на грани двух столетий, носили характер первичный, предварительный”9. Говоря о влиянии Северной войны на процесс реформ, исследователи подчеркивают, что “война, остро необходимые преобразования армии “вытянули” всю цепочку реформ: финансовых, социальных, экономических, просветительских, административных и др”10. Второй период — это время, когда ясен был исход войны, были опробованы результаты преобразований первого периода, стали более отчетливы цели и задачи реформ. Не случайно основная доля наиболее серьезных нововведений падает на последнее десятилетие правления Петра: в военной области — это введение основных военных регламентов — Устава Воинского (1716 г.) и Устава Морского (1720 г.) (просуществовавшие без изменений до 1814 и 1853 годов соответственно, рекрутская же система просуществовала до 1874 года); в сфере административной — учреждение в 1717 — 1721 г.г. системы коллегий, провинциальная реформа 1719 года, реформа магистратов 1720 — 1721 гг., провозглашение Петра императором, завершившее формирование централизованного абсолютистского государства11. В различных исследованиях рубежом является 1715, 1716 или 1717 гг., когда, по мнению ряда исследователей, законодательную деятельность Петра в полной мере стало отличать систематическое и рациональное планирование12. Характеризуя первый период реформ, следует повториться, что их направление и методику проведения определяла война. По этой причине первые преобразования связаны со стратегическими направлениями жизнедеятельности государства: с одной стороны, не 8
посредственно военные реформы, с другой — финансовые преобразования, тесно связанные с административными, налоговыми мероприятиями. Этот блок реформ был призван обеспечить армию и флот, а также их боеспособность (материальное обеспечение). Указы от 8 и 17 ноября 1699 г., определившие источники комплектования новых полков, создали основу новой регулярной армии. Первый из этих указов приглашал на службу охотников из числа не закрепощенных людей. Охотников соблазняли высоким жалованьем — по 11 руб. в год, а также обеспечением продовольствием. Денежное вознаграждение за службу почти вдвое превышало размер жалования стрельцам, что позволяло охотникам заниматься только военным делом в течение всей своей бессрочной службы. Система оплаты, существовавшая традиционно в Московском государстве, не предполагала жалования полностью обеспечивавшего служащего. Отсюда хозяйственная деятельность стрельцов, лишавшая их некоторых качеств профессионального войска, и система мзды за службу чиновникам, допустимые размеры которой были очень размытыми, что допускало многочисленные случаи злоупотреблений. Введение полного обеспечения государством служилого люда стало одним из первых шагов начинающейся бюрократизации. Другим источником комплектования армии было привлечение на службу так называемых даточных людей. Указ 17 ноября определял норму постановки даточных различными категориями землевладельцев. Самая высокая норма — 1 рекрут с 25 дворов — устанавливалась для духовных феодалов; с 30 дворов поставляли даточных дворяне, находящиеся на гражданской службе, и с 50 дворов — землевладельцы, служащие в армии. Указ от 17 ноября 1699 года положил начало рекрутской системе, при которой на службу в армию привлекался один рекрут от определенного количества крестьянских и посадских дворов. В итоге из охотников и даточных было сформировано 29 пехотных и 2 драгунских полка общей численностью 32 000 чел. Реформа на этом этапе не коснулась конницы, она, как и в былые времена, состояла из дворянского ополчения13. Создание регулярной армии и флота потребовало огромных затрат, что вело к реформированию налогообложения и городской реформе. Начало городской реформе положили два указа, обнародованные 30 января 1699 года14. Один из них определял порядок выборов бурмистров в Москве, другой — в провинции. Первый указ 9
мотивировал реформу тем, что посадским людям “от многих приказных волокит чинятся большие убытки и разорения, так что иные из них от торгов своих и промыслов отбыли и оскудали”. На созданную Ратушу и земские избы возложили сбор таможенных пошлин и кабацких доходов. Одной из целей реформ было оживление ремесла, промышленности и торговли15. Городская реформа 1699 г. завершила процесс изъятия посада из-под власти воевод, лишив их и судебной власти16. Говорить о необдуманности первых реформ, кажется, не приходится, т.к. несмотря на то, что к концу царствования Петр в основном ликвидировал установления реформы 1699 г., эта реформа молодого царя опиралась на тенденции предшествующего царствования. Еще А.Л. Ордин-Нащекин, составитель Новоторгового устава 1667 года, отмечал, что многие неурядицы в жизни посадского населения происходили от того, что оно находилось в управлении многих приказов и было бы куда лучше, если бы был учрежден “пристойный приказ” не только для управления городами, но и для обороны посадского населения от посягательств воевод и приказов17. В 1679 — 1681 гг. в результате реформы налогообложения посадское население стало основным сборщиком прямых и косвенных налогов (составлявших до 45% казны: таможенных и кабацких денег). Осуществляли эти сборы уже выборные, хотя судебная власть продолжала оставаться в руках воевод до 1699 года. Этот первый шаг в деле реформ сопровождался проводившейся денежной реформой. Но если административные преобразования 1699 года были еще связаны с предшествующими традициями, то денежная реформа была плодом Петра и его окружения. Опыт денежных реформ XVII века был неудачным и вызвали массовые выступления, известные как “медные бунты”. Общий план денежной реформы, по видимому, стал обдумываться еще с середины 90-х годов ХѴ II века. Проводившаяся во время пребывания Петра I в Англии денежная реформа убедила его в необходимости использования машинной технологии в монетном деле. Английская реформа проводилась под руководством И. Ньютона, возглавлявшего монетный двор. Царь вместе с Я.В. Брюсом слушал объяснения ученого и его рассказы о смысле проводимой денежной реформы18. Исследователь денежной реформы Петра I А.И. Юхт подчеркивал, что к реформам готовились основательно, начав с постройки новых монетных дворов и оснащения их разными машинами. Он говорил о постепенности в ее проведении. “Делали определенный 10
Доступ онлайн
В корзину