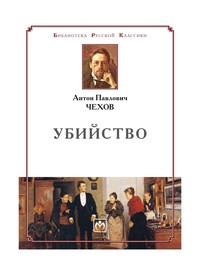Убийство
Покупка
Основная коллекция
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Автор:
Чехов Антон Павлович
Год издания: 2013
Кол-во страниц: 26
Дополнительно
Вид издания:
Художественная литература
Артикул: 616598.01.99
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 45.03.01: Филология
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
А.П. Чехов УБИЙСТВО Москва ИНФРА-М 2013
УДК 822 ББК 84 (2 Рос=Рус) Ч 56 Чехов А.П. Убийство. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 26 с. – (Библиотека рус ской классики). ISBN 978-5-16-007318-7 © Оформление. ИНФРА-М, 2013 Подписано в печать 25.12.2012. Формат 60x88/16. Гарнитура Newton. Бумага офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ № Цена свободная. «Научно-издательский центр ИНФРА-М» 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1 Тел.: (495) 3800540, 3800543. Факс: (495) 3639212 E-mail: books@infra-m.ru http://www.infra-m.ru
УБИЙСТВО I На станции Прогонной служили всенощную. Перед большим образом, написанным ярко, на золотом фоне, стояла толпа станционных служащих, их жен и детей, а также дровосеков и пильщиков, работавших вблизи по линии. Все стояли в безмолвии, очарованные блеском огней и воем метели, которая ни с того, ни с сего разыгралась на дворе, несмотря на канун Благовещения. Служил старик священник из Веденяпина; пели псаломщик и Матвей Терехов. Лицо Матвея сияло радостью, он пел и при этом вытягивал шею, как будто хотел взлететь. Пел он тенором и канон читал тоже тенором, сладостно, убедительно. Когда пели «Архангельский глас», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие. Но вот всенощная окончилась, все тихо разошлись, и стало опять темно и пусто, и наступила та самая тишина, какая бывает только на станциях, одиноко стоящих в поле или в лесу, когда ветер подвывает и ничего не слышно больше и когда чувствуется вся эта пустота кругом, вся тоска медленно текущей жизни. Матвей жил недалеко от станции, в трактире своего двоюрод ного брата. Но ему не хотелось домой. Он сидел у буфетчика за прилавком и рассказывал вполголоса: – У нас на изразцовом заводе был свой хор. И должен я вам за метить, хотя мы и простые мастера были, но пели мы понастоящему, великолепно. Нас часто приглашали в город, и когда там викарный владыка Иоанн изволил служить в Троицкой церкви, то архиерейские певчие пели на правом клиросе, а мы на левом. Только в городе жаловались, что мы долго поем: заводские, говорили, тянут. Оно правда, мы «Андреево стояние» и «Похвалу» начинали в седьмом, а кончали после одиннадцати, так что, бывало, придешь домой на завод, а уже первый час. Хорошо было! – вздохнул Матвей. – Очень даже хорошо, Сергей Никанорыч! А здесь, в родительском доме, никакой радости. Самая ближняя церковь в пяти верстах, при моем слабом здоровье и не дойдешь туда, певчих нет. А в семействе нашем никакого спокойствия, деньденьской шум, брань, нечистота, все из одной чашки едим, как мужики, а щи с тараканами… Не дает бог здоровья, а то бы я давно ушел, Сергей Никанорыч.
Матвей Терехов был еще не стар, лет 45, но выражение у него было болезненное, лицо в морщинах; и жидкая, прозрачная бородка совсем уже поседела, и это старило его на много лет. Говорил он слабым голосом, осторожно и, кашляя, брался за грудь, и в это время взгляд его становился беспокойным и тревожным, как у очень мнительных людей. Он никогда не говорил определенно, что у него болит, но любил длинно рассказывать, как однажды на заводе он поднял тяжелый ящик и надорвался и как от этого образовалась грызь, заставившая его бросить службу на изразцовом заводе и вернуться на родину. А что значит грызь, объяснить он не мог. – Признаться, не люблю я брата, – продолжал он, наливая себе чаю. – Он мне старший, грех осуждать, и боюсь господа бога, но не могу утерпеть. Человек он надменный, суровый, ругательный, для своих родственников и работников мучитель, и на духу не бывает. В прошлое воскресенье я прошу его ласково: «Братец, поедемте в Пахомово к обедне!» А он: «Не поеду, – там, говорит, поп картежник». И сюда не пошел сегодня, потому, говорит, веденяпинский священник курит и водку пьет. Не любит духовенства! Сам себе и обедницу служит, и часы, и вечерню, а сестрица ему вместо дьячка. Он: господу помолимся! А она тонким голосочком, как индюшка: господи помилуй!.. Грех, да и только. Каждый день ему говорю: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!» – а он без внимания. Сергей Никанорыч, буфетчик, налил пять стаканов чаю и понес их на подносе в дамскую. Едва он вошел туда, как послышался крик: – Как ты подаешь, поросячья морда? Ты не умеешь подавать! Это был голос начальника станции. Послышалось робкое бор мотанье, потом опять крик, сердитый и резкий: – Пошел вон! Буфетчик вернулся сильно сконфуженный. – Было время, когда угождал и графам, и князьям, – проговорил он тихо, – a теперь, видите, не умею чай подать… Обругал при священнике и дамах! Буфетчик Сергей Никанорыч когда-то имел большие деньги и держал буфет на первоклассной станции, в губернском городе, где перекрещивались две дороги. Тогда он носил фрак и золотые часы. Но дела у него шли плохо, он потратил все свои деньги на роскошную сервировку, обкрадывала его прислуга, и, запутавшись малопомалу, он перешел на другую станцию, менее бойкую; здесь от него ушла жена и увезла с собой всё серебро, и он перешел на третью станцию, похуже, где уже не полагалось горячих кушаний. Потом на четвертую. Часто меняя места и спускаясь все ниже и
ниже, он, наконец, попал на Прогонную и здесь торговал только чаем, дешевою водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской. У него была лысина во всё темя, голубые глаза навыкате и густые, пушистые бакены, которые он часто расчесывал гребенкой, глядясь в маленькое зеркальце. Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам, которые торговались, а, по его мнению, торговаться в буфете было так же неприлично, как в аптеке. Ему было стыдно своей бедности и своего унижения, и этот стыд был теперь главным содержанием его жизни. – А весна в этом году поздняя, – сказал Матвей, прислушива ясь. – Оно и лучше, я не люблю весны. Весной грязно очень, Сергей Никанорыч. В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об леригии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи да цветочки – бог с ними! Он опять начал об изразцовом заводе, о хоре, но оскорбленный Сергеи Никанорыч никак не мог успокоиться и всё пожимал плечами и бормотал что-то. Матвей простился и пошел домой. Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги. А дубовый лес, по обе стороны линии, едва освещенный луной, которая пряталась где-то высоко за облаками, издавал суровый, протяжный шум. Когда сильная буря качает деревья, то как они страшны! Матвей шел по шоссе вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом, сани скребли по голым камням шоссе, и мужик с окутанною головой, тоже весь белый, хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто всё это ему только примерещилось, и он ускорил шаги, вдруг испугавшись, сам не зная чего. Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Шлагбаум поднят, и около намело целые горы, и, как ведьмы на шабаше, кружатся облака снега. Тут линию пересекает старая, когда-то большая дорога, которую до сих пор еще зовут трактом. Направо, недалеко от переезда, у самой дороги, стоит трактир Терехова, бывший постоялый двор. Тут по ночам всегда брезжит огонек. Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его Яков Иваныч еще продолжал служить всенощную. В молельной, где это происходило, в переднем
углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма, в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ Благовещения и тут же кипарисовый крест и кадильница; горели восковые свечи. Возле стола был аналой. Проходя мимо молельной, Матвей остановился и заглянул в дверь. Яков Иваныч в это время читал у аналоя; с ним молилась сестра его Аглая, высокая, худощавая старуха в синем платье и белом платочке. Была тут и дочь Якова Иваныча, Дашутка; девушка лет 18, некрасивая, вся в веснушках, по обыкновению босая и в том же платье, в каком под вечер поила скотину. – Слава тебе, показавшему нам свет! – провозгласил Яков Ива ныч нараспев и низко поклонился. Аглая подперла рукой подбородок и запела тонким, визгливым, тягучим голосом. А вверху над потолком тоже раздавались какието неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. Во втором этаже после пожара, бывшего когда-то очень давно, никто не жил, окна были забиты тесом и на полу между балок валялись пустые бутылки. Теперь там стучал и гудел ветер и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки. Половина нижнего этажа была занята под трактир, в другой помещалась семья Терехова, так что когда в трактире шумели пьяные проезжие, то было слышно в комнатах всё до одного слова. Матвей жил рядом с кухней, в комнате с большою печью, где прежде, когда тут был постоялый двор, каждый день пекли хлеб. В этой же комнате, за печкой помещалась и Дашутка, у которой не было своей комнаты. Всегда тут по ночам кричал сверчок и суетились мыши. Матвей зажег свечу и стал читать книгу, взятую им у станцион ного жандарма. Пока он сидел над ней, моление кончилось и все легли спать. Дашутка тоже легла. Она захрапела тотчас же, но скоро проснулась и сказала, зевая: – Ты, дядя Матвей, зря бы свечку не жег. – Это моя свечка, – ответил Матвей. – Я ее за свои деньги ку пил. Дашутка поворочалась немного и опять заснула. Матвей сидел еще долго – ему не хотелось спать – и, кончив последнюю страницу, достал из сундука карандаш и написал на книге: «Сию книгу читал я, Матвей Терехов, и нахожу ее из всех читанных мною книг самою лутшею, в чем и приношу мою признательность унтерофицеру жандармского управления железных дорог Кузьме Николаеву Жукову, как владельцу оной бесценной книгы». Делать подобные надписи на чужих книгах он считал долгом вежливости.
II В самый день Благовещения, после того, как проводили почто вый поезд, Матвей сидел в буфете, пил чай с лимоном и говорил. Слушали ею буфетчик и жандарм Жуков. – Я, надо нам заметить, – рассказывал Матвей, – еще в малолет стве был привержен к леригии. Мне только двенадцать годочков было, а я уже в церкви апостола читал, и родители мои весьма утешались, и каждое лето мы с покойной маменькой ходили на богомолье. Бывало, другие ребяты песни поют или раков ловят, а я в это время с маменькой. Старшие меня одобряли, да и мне самому было это приятно, что я такого хорошего поведения. И как маменька благословили меня на завод, то я между делом пел там тенором в нашем хоре, и не было лучшего удовольствия. Само собой, водки я не пил, табаку не курил, соблюдал чистоту телесную, а такое направление жизни, известно, не нравится врагу рода человеческого, и захотел он, окаянный, погубить меня и стал омрачать мой разум, всё равно, как теперь у братца. Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал. То же и в малые посты. Бывало, в Петровки наши заводские хлебают щи из судака, а я в стороночке от них сухарик сосу. У людей сила разная, конечно, но я об себе скажу: в постные дни мне не трудно было и так даже, что чем больше усердия, тем легче. Хочется кушать только в первые дни поста, а потом привыкаешь, становится всё легче и, гляди, в конце недели совсем ничего и в ногах этакое онемение, будто ты не на земле, а на облаке. И, кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже. Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание; ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он, небось, осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит будто дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце не спокой
но, все кажется, будто монахи не по уставу живут. И после этого никак я не могу найти службу по себе: в одном месте служат очень скоро, в другом, гляди, задостойник не тот пропели, в третьем дьячок гугнивый… Бывало, господи прости меня грешного, стою это в церкви, а от гнева сердце трясется. Какая уж тут молитва? И представляется мне, будто народ в церкви не так крестится, не так слушает; на кого ни погляжу, все пьяницы, скоромники, табачники, блудники, картежники, один только я живу по заповедям. Лукавый бес не дремал, дальше-больше, перестал я петь в хоре и уж вовсе не хожу в церковь; так уж я об себе понимаю, будто я человек праведный, а церковь по своему несовершенству для меня не подходит, то есть, подобно падшему ангелу, возмечтал я в гордыне своей до невероятия. После этого стал я хлопотать, как бы свою церковь устроить. Нанял я у глухой мещанки комнатушечку далеко за городом, около кладбища, и устроил молельную, вот как у братца, но только у меня еще ставники были и настоящее кадило. В этой своей молельной я держался устава святой Афонской горы, то есть каждый день обязательно утреня у меня начиналась в полночь, а под особо чтимые двунадесятые праздники всенощная у меня служилась часов десять, а когда и двенадцать. Монахи всетаки, по уставу, во время кафизм и паремий сидят, а я желал быть угоднее монахов и всё, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со воздыханием, воздевая руки, и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю всё с молитвой. Ну, пошло по городу: Матвей святой, Матвей больных и безумных исцеляет. Никого я, конечно, не исцелял, но известно, как только заведется какой раскол и лжеучение, то от женского пола отбоя нет. Всё равно, как мухи на мед. Повадились ко мне разные бабки и старые девки, в ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее, а одна даже на моей голове сияние видела. Стало тесно в молельной, взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение, бес забрал меня окончательно и заслонил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели, и этак, долго не евши и не пивши, простоявши на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение, будто их лихорадка бьет, потом, этого, то одна крикнет, то другая – и этак страшно! Я тоже трясусь весь, как жид на сковородке, сам не знаю, по какой такой причине, и начинают наши ноги прыгать. Чудно, право: не хочешь, а прыгаешь и руками болтаешь; и потом, этого, крик, визг, все пляшем и друг за дружкой бегаем, бегаем до упаду. И таким образом, в диком беспамятстве впал я в блуд.
Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал: – Это молоканство. Я читал, на Кавказе все так. – Но не убило меня громом, – продолжал Матвей, перекрестясь на образ и пошевелив губами. – Должно, молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину Осипу Варламычу прощаться – тогда прощеный день был, – а он этак запер на крючочек дверь и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А должен я вам заметить, Осип Варламыч без образования, но дальнего ума человек, и все его почитали и боялись, потому был строгой, богоугодной жизни и тружденник. Городским головой был и старостой лет, может, двадцать и много добра сделал; Ново-Московскую улицу всю покрыл гравилием, выкрасил собор и колонны расписал под малафтит. Ну, запер дверь и – «давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой… Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!..» И пошел, и пошел… Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и – как зарыдаю! «Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельная твоя от беса; всё, говорит, это гордость». На другой день, в чистый понедельник, привел меня бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу; мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы мне прямая дорога – в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: «Помни же, Матвей, что сверх обыкновения, то от беса». И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все… Ежели теперь, случается, от батюшки пахнет табаком или винцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь и я, как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их, но выходит глас вопиющего в пустыне. Не дал мне бог дара. Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатле ния. Сергей Никанорыч ничего не сказал и стал убирать с прилавка
закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея, Яков Иваныч. – У него тысяч тридцать, по крайней мере, – сказал он. Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый (когда он ходил, у него дрожали щеки), здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалясь и положив ногу на ногу; разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал, и в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством, и когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему. – Да, тридцать тысяч будет, пожалуй, – согласился Сергей Ни канорыч. – У вашего дедушки было огромадное состояние, – сказал он, обращаясь к Матвею. – Огромадное! Всё потом осталось вашему отцу и вашему дяде. Ваш отец помер в молодых летах, и после него всё забрал дядя, а потом, значит, Яков Иваныч. Пока вы с маменькой на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали. – На вашу долю приходится тысяч пятнадцать, – сказал жан дарм, покачиваясь. – Трактир у нас общий, значит, и капитал общий. Да. На вашем месте я давно бы подал в суд. Я бы в суд подал само собой, а пока дело, один на один всю бы рожу ему до крови… Якова Иваныча не любили, потому что когда кто-нибудь верует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи. – Вам не охота судиться с братом, потому что у нас своих денег много, – сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью. – Хорошо тому, у кого есть средства, а вот я, должно быть, так и умру в этом положении… Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег, но Сергей Ни канорыч уже не слушал; воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него; лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами. – Жизнь проклятая! – сказал он с досадой и ударил колбасой о пол. III Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Алек сандре I какою-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном; называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто, бывало, про