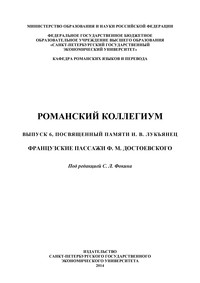Романский коллегиум. Вып. 6, посвященный памяти И.В.Лукьянец. Французские пассажи Ф.М. Достоевского
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Литературоведение. Фольклористика
Автор:
Фокин С. Л.
Год издания: 2014
Кол-во страниц: 185
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-7310-3046-5
Артикул: 626632.01.99
Коллективная монография "Французские пассажи Ф. М. Достоевского", выходящая в свет в рамках специального выпуска "Романского коллегиума", посвященная изучению сложных взаимоотношений русского писателя с Францией, французским языком и французской литературой.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 45.04.01: Филология
- 45.04.02: Лингвистика
- ВО - Специалитет
- 45.05.01: Перевод и переводоведение
- Аспирантура
- 45.06.01: Языкознание и литературоведение
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДА
РОМАНСКИЙ КОЛЛЕГИУМ
ВЫПУСК 6, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ И. В. ЛУКЬЯНЕЦ
ФРАНЦУЗСКИЕ ПАССАЖИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Под редакцией С. Л. Фокина
ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2014
ББК 83.3(0)
Р69
Романский коллегиум. Выпуск 6, посвященный памяти Р69 И. В. Лукьянец. Французские пассажи Ф. М. Достоевского / под ред. С. Л. Фокина. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 182 с.
ISBN 978-5-7310-3046-5
Коллективная монография «Французские пассажи Ф. М. Достоевского», выходящая в свет в рамках специального выпуска «Романского коллегиума», посвящена изучению сложных взаимоотношений русского писателя с Францией, французским языком и французской литературой. Предназначается для филологов и философов, историков и культурологов, студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов российских и зарубежных университетов.
The collective monograph «French passages of F. M. Dostoevsky» published in a special issue of the «Romance Collegium» is devoted to the study of complex relationships of the Russian writer with France, French language and French literature. It is designed for philologists and philosophers, historians and culture experts, students, postgraduates and teachers of the humanities faculties of the Russian and foreign universities.
ББК 83.3(0)
Редакционная коллегия'.
д-р филол. наук, заведующий кафедрой романских языков гуманитарного факультета СПбГЭУ С. Л. Фокин (председатель); канд. филол. наук, доцент кафедры романских языков и перевода гуманитарного факультета СПбГЭУ Е. Е. Вере-зубова (зам. председателя); ассистент кафедры романских языков и перевода М. В. Пантина (технический секретарь); канд. филол. наук, заведующий кафедрой французского языка Филологического факультета СПбГУ С. В. Власов; д-р филол. наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена А. И. Жеребин; д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) Д. В. Токарев
Рецензенты:
д-р филол. наук, профессор кафедры истории зарубежных литератур филологического факультета СПбГУ Т. В. Соколова
д-р филол. наук, профессор кафедры французского языка филологического факультета СПбГУ Т. С. Тайманова
ISBN 978-5-7310-3046-5
© СПбГЭУ, 2014
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение (С. Л. Фокин)..........................................5 Часть первая ДОСТОЕВСКИЙ О ФРАНЦИИ, ФРАНЦУЗАХ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ Глава 1. Враг мой - язык не мой (О. Е. Волчек, С. Л. Фокин).....6 Глава 2. Французский «Цветок зла» в Западной Сибири (О. Е. Волчек).................................................17 Глава 3. Орфей без Эвридики, или О языковом терроре в Степанчикове (М. Н. Недосейкин)..............................38 Глава 4. Пассаж в парижских пассажах летом 1862 года: «встреча-невстреча» Достоевского и Мане (С. Л. Фокин)..........53 Часть вторая ПЕРЕКЛИЧКИ И ПЕРЕПЕВЫ, СООТВЕТСТВИЯ И СОПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. Паскаль и Достоевский: избирательное сродство (В. Д. Алташина)...............................................71 Глава 2. Музыкальная шутка в «Бесах» (Ф. Н. Двинятин)..........81 Глава 3. О переводе «французского характера в русские буквы»: флоберовские мотивы в творчестве Достоевского (Е. Д. Гальцова).98 Глава 4. Достоевский и философия трагедии модерна (А. Л. Вольский)..............................................109 Часть третья ФРАНЦУЗСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО Глава 1. «Крушение идей» в романах «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и «Ученик» Поля Бурже (М. А. Степанова).123
Глава 2. «Братья Карамазовы» на французском языке (С. В. Власов).... 132 Глава 3. «Идиот» в романе К. Симона «Ветер» (И. А. Никифорова).156 Приложение. К. Симон. Человек с окровавленным челом.......168 Глава 4. О сходстве психологических мотивов лжепокаяния у Ставрогина и Кламанса (Ю. В. Сергеев)...................169 Глава 5. Князь Мышкин и другие в «Русском романе» Эммануэля Каррэра (|И. В. Лукьянец)....................................174
ВВЕДЕНИЕ
Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского (1821-1881) связаны с Францией странной взаимностью: с одной стороны, нет другой такой страны в целом мире, язык, литература, культура которой отличились бы таким вниманием, таким гостеприимством, такой всеотзывчивостью в отношении книг, идей, самой личности русского писателя; с другой стороны, сам Достоевский питал к французскому языку, французским писателям, французской жизни более чем сложные чувства, в высшей степени избирательное сродство, в котором пылкая юношеская увлеченность Бальзаком, Гюго, Санд, Сю переплеталась с более поздним пылким же неприятием самого французского духа и в особенности русской офранцу-женности, что выражалось как в трагикомических картинах «французского лингвистического террора» в «Селе Степанчикове», так и в знаменитой пронаполеоновской тираде Смердякова в «Братьях Карамазовых».
В ознаменование 190-летия русского писателя кафедра романских языков и перевода Санкт-Петербургского государственного экономического университета провела коллоквиум, участникам которого предлагалось поразмышлять о двух сторонах «французской идеи» Достоевского. Этот коллоквиум состоялся благодаря активному содействию проректора по науке СПбГЭУ А. Е. Карлика, которому мы все здесь выражаем глубокую признательность.
С одной стороны, нам было важно продолжить изучение круга французских писателей, для которых творчество Достоевского оказалось в какой-то момент творчески необходимым и чему есть соответствующие культурные свидетельства: моменты критической рефлексии, открытые и скрытые заимствования, опыты творческой переработки или философского переосмысления, элементы интертекстуальности. С другой стороны, нам было важно обратить исследовательское внимание на различные составляющие «французской идеи» в творчестве и сознании самого Достоевского: на образы, традиции и травестиции французского языка, французской литературы, французов, французской жизни, как они предстают в сочинениях и переписке писателя.
Материалы этого коллоквиума, состоявшегося 11 ноября 2011 г., были положены в основу коллективной монографии «Французские пассажи Ф. М. Достоевского», которая выходит в свет в рамках специального выпуска «Романского коллегиума».
Пока готовилась эта публикация, из жизни ушла И. В. Лукьянец (1955-2013), очаровательная, изящная женщина, выдающийся и тонкий знаток французской литературы, профессор Санкт-Петербургского Университета. Светлой памяти коллеги посвящаются наши труды.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДОСТОЕВСКИЙ О ФРАНЦИИ, ФРАНЦУЗАХ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Глава 1
Враг мой - язык не мой
В повести «Село Степанчиково и его обитатели» встречается одна фраза, в которой, будто в семантической матрешке, не только заключается целый ряд вторящих одна другой смысловых доминант текста, но и отражается нечто вроде навязчивой идеи в отношении французского языка и вообще «французскости», постоянство и настойчивость которой сказывается во множестве текстов и жестов писателя. В главе «Дядя» рассказчик, уже немало озадаченный в городке Б. пересудами различных лиц об истинном владыке Степанчикова Фоме Фомиче Опискине, прибывая к цели своего путешествия, встречается сначала не с дядей, а со своим дядькой, стариком Гаврилой, который жалуется своему питомцу на произвол новоявленного носителя просвещения, принудившего «туземца» учить распроклятый французский язык:
Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить (Достоевский III: 38).
Замечание рассказчика, подчеркнем это сразу, сделано не вдруг, не мимолетом, не по ходу дела, а, так сказать, задним числом, когда неизвестный повествователь, уже пережив трагикомическое приключение, собирает все свои мысли в точку, пытаясь донести до читателя самую суть, самую соль необычайного происшествия, в сущности, скверного анекдота. Иными словами, спотыкаясь на этой частной, казалось бы, истории с французским языком, повествователь дает нам понять, что вся история, которую он рассказывает, непосредственно касается другой истории - истории с французским языком, а последняя играет немаловажную роль в организации всей повести.
При этом стоит также заметить, что рассказать эту вторую историю оказывается не так-то просто: даже старик Гаврила, который был некогда «дядькой», то есть первым учителем, воспитателем нашего рассказчика, не может ее «объяснить». Таким образом, история с французским языком в «Селе Степанчикове» приобретает две, по меньшей мере, повествовательные, или нарративные, функции: с одной стороны, перед нами клас
сический образец «истории в истории», такой повествовательной матрешки или, в терминах французской модернистской поэтики, «mise-en-abime», то есть, проще говоря, формальный прием, который позволяет представить часть через целое, а целое через часть; тогда как с другой - симптом своего рода ступора, некоей утраты речи, во всяком случае, повествовательная помеха, преодоление которой, требуя особого усилия со стороны повествователя, становится одним из ведущих мотивов самого повествования. Таким образом, главная гипотеза нижеследующих размышлений заключается в том, что история с французским языком является в «Селе Степанчикове» не какой-то обыкновенной историей, а отдельным эпизодом одной большой или даже великой истории одной борьбы или даже войны, которую один русский писатель - Ф. М. Достоевский - вел с французским языком на протяжении всей своей творческой жизни, воспринимая говорение на французском языке как один из самых ярких элементов более общей, более весомой фигуры онтологического безъязычия русского человека и русской мысли.
В действительности, мы здесь сосредоточимся в основном на самом первом моменте этой большой темы: нам предстоит рассмотреть истоки и смысл резкой антипатии Достоевского к французской речи; антипатии, сказавшейся не только в «Селе Степанчикове», но и в целом ряде других сочинений, равно как в его переписке. При этом сразу уточним, что речь будет идти именно о речи, то есть французском разговоре и французских разговорах, тогда как все вопросы рецепции письменной французской культуры выводятся за рамки этого рассуждения. Заметим тем не менее, что, в отличие от французской речи, особенно неприятной для уха Достоевского в устах русских людей, французская словесность не вызывает такого резкого отторжения и становится одной из самых действенных движущих сил его писательского становления, чему подтверждение можно найти как в полупародийном переложении «Эжени Гранде» Бальзака на русский язык, ставшем, как известно, первым авторским сочинением русского писателя, так и в нескончаемом собеседовании с целым рядом французских мыслителей и романистов, оказавшемся, по всей видимости, одним из самых ярких горнил, в котором переплавлялись и закалялись творческие убеждения Достоевского.
Французский язык в русской литературной жизни 30-х годов, когда подросток Достоевский начинает подумывать о сочинительстве, был языком культуры par excellence. Однако, если в отношении дворянского периода развития русской словесности можно даже говорить о своего рода литературной диглоссии, поскольку подавляющее большинство писателей пушкинской поры свободно владело двумя языками и даже пыталось закрепить их употребление по разным функциональным сферам, то эпоха Достоевского начиналась под знаком попыток преодоления доминирую
щего положения французского языка в умственной жизни России¹. Это преодоление могло принимать весьма нелепые формы категорического отказа или даже запрета на использование французской речи в тех или иных собраниях или ситуациях, литературных кругах или кружках, ориентированных, как правило, на те или иные формы культурной архаики; тем не менее, нельзя не увидеть в этих стремлениях общества говорить исключительно на родном языке там, где еще несколько лет тому слышалась только иностранная речь, ростков здорового консерватизма и искренней заботы о самостоятельности русской мысли и русского слова.
Говорить и понимать по-французски для русского образованного человека рубежа 30-40-х было такой же необходимостью, как владеть азами Священного писания, древних языков и красноречия. В образовании Достоевского систематическое обучение французскому языку начинается, как известно, в пансионе Леонтия Ивановича Чермака, к поступлению в который братья Достоевские готовились в пансионе Николая Ивановича Сушарда. В этой связи стоит обратить внимание на то, что образование в частном и довольно дорогом пансионе Чермака, где работали даже профессора Московского университета было по-настоящему отменным (см. об этом: Федоров 1974: 241-245). О том, как в то время изучали иностранные языки, можно составить себе представление по воспоминаниям брата писателя А. М. Достоевского. Несмотря на то, что приведенные воспоминания относятся к другому пансиону, в общем и целом они дают представление о характере обучения французскому языку во времена Достоевского:
Ужели я что-либо приобрел за этот год, то это во французском и немецком языках [...] Тогда только что вошла в употребление метода с картинками: на печатных, раскрашенных картинах, наклеенных на картонные листы, изображались различные предметы, а равно животные и птицы, и к ним принадлежали печатные рассказы на французском, немецком и русском языках, различные признаки и свойства нарисованных на картинах предметов. Эти признаки и свойства разнообразились и дополнялись самим преподавателем, и мы прямо в классе, без всякого урока к приготовлению, занимались практическими рассказами про различные предметы
¹ См. об этом раннюю монографию В. В. Виноградова «Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка», где замечательно зафиксированы основные этапы подготовительного периода этой войны двух языков в русской культуре (Виноградов 1935, особенно главы VI и VII «Русско-французский язык дворянского салона и борьба Пушкина с литературными нормами “языка светской дамы”» и «Русская литературная речь и “европейское мышление”. Отражение французского языка в языке Пушкина»: 195-318). Ср. также новейшую точку зрения на эту проблему: Коренева 2000: 11-38. О влиянии самого строя французского языка через транспозицию принципов «Словаря Французской академии» на почву русской академической лексикографии см. также: Захарова 2009: 13-25.
на французском и немецком языках и заучивали это наизусть. Вот это только и осталось у меня в памяти (Достоевский А. М. 1990: 92).
К данному свидетельству следует присовокупить запечатленный в этих же мемуарах образ преподавателя французского языка m-r Манго, учившего своей родной речи будущего русского писателя в пансионе Чермака и до того запавшего в юную душу, что многозначительные упоминания о нем вырвались как в программном «Преступлении и наказании»¹, так и в более сокровенном «Житии великого грешника» (около 1870 г.), незавершенном замысле, значение которого для исследования генеалогии «французской идеи» Достоевского трудно переоценить². Итак, m-r Манго:
Это был мужчина лет сорока пяти, очень добродушный, а главное, ровный господин, никогда, он, бывало, не вспылит, а всегда хладнокровный и обходчивый. Обязанность его, кроме надзирательства, была читать с нами по-французски; действительно, читал он мастерски, так что и высших классах часто занимался этим, но по части грамматики был плоховат и не брался за нее. Он был барабанщиком великой наполеоновской армии; в 1812 г. взят в плен и с тех пор остался в Москве. Так как он очень правильно говорил по-французски и отлично читал, то ему и дозволено было быть надзирателем или гувернером (Достоевский А. М. 1990: 115).
Итак, несмотря на то, что французскому языку Достоевского учил буквально отставной козы барабанщик, его уроки, по всей видимости, не прошли даром; со времен пансиона Чермака французский язык, а также более или менее определенные представления о Франции, французах, французской словесности входят в сознание Достоевского, образуя довольно сложный семантический конгломерат или довольно пеструю, разношерстную идеологическо-лингвистическую смесь, разложить которую на все составляющие вряд ли возможно в рамках этого рассуждения. Важно то, что с поры обучения в пансионе Чермака Достоевский начинает
¹ «Воспламенившись, Катерина Ивановна немедленно распространилась о всех подробностях будущего прекрасного и спокойного житья-бытья в Т...; об учителях гимназии, которых она пригласит для уроков в свой пансион; об одном почтенном старичке, французе Манго, который учил по-французски еще самое Катерину Ивановну в институте и который еще и теперь доживает свой век в Т... и, наверно, пойдет к ней за самую сходную плату. Дошло, наконец, дело и до Сони, «которая отправится в Т...» (Достоевский V: 366).
² «NB. Так как многое его иногда трогает сердечно, то он в страшном припадке злости и гордости бросается в разгул. (ЭТО ГЛАВНОЕ). Отчужденности помогало и то, что и все на него смотрели как на эксцентрика с насмешками или со страхом. Пробитая голова (pantalons en haut), болен. Потом Чермак оставил его. (Манго)» (Достоевский X: 317).
разрабатывать свою идею Франции и что у истоков этой идеи стоит некий m-r Манго, солдат великой, но поверженной армии Наполеона: таким образом, в сознание молодого Достоевского романтический образ Наполеона, коим бредили тогда многие юные умы по всей Европе, входит одновременно с идеей маленького человека, который, несмотря на все свое ничтожество, способен быть носителем великой идеи. Для полноты картины такой или подобной психодрамы, которая могла разыгрываться в мыслях многих русских мальчиков того времени, к паре великого/малого следует прибавить предощущение падения, неминуемого крушения величия.
Заметим в этой связи, что «французская идея» Достоевского разрабатывалась в трудах виднейших филологов России и Франции, существует множество интересных работ об отношении русского писателя к Бальзаку, Гюго, Кюстину, Лесажу, Руссо, Жорж Санд, Сю, Французской революции, французским социалистам и т. д.¹
Странно, что в такого рода работах никогда не ставился вопрос о степени владения французским языком или усвоения русским писателем французской речи; большинство исследователей по умолчанию полагают, опираясь, прежде всего, на значительный корпус французской литературы в личной библиотеке Достоевского, как реальной, так и воображаемой, что автор «Белых ночей» и «Бесов» владел языком Декарта и Вольтера если не в совершенстве, то в какой-то безусловно достаточной мере (Ср.: Библиотека Ф. М. Достоевского... 2005). Отмалчиваются на сей счет и биографы.
Однако с точки зрения преподавателей французского языка, которую мы здесь занимаем и представляем, такой вопрос имеет весьма немаловажное значение: слишком многое говорит о существенности и стойкости увлечения Достоевского французской культурой и французской речью, чтобы обойти вниманием эту проблему. И наш дидактический вопрос будет до банальности прямым: а говорил ли молодой Достоевский на французском языке в это время, когда вся просвещенная Россия и вся просвещенная Европа изъяснялись по-французски²? И если говорил, то с кем и о чем?
В свете этих вопросов представляется необходимым коснуться нескольких редких свидетельств современников, а также рассмотреть некоторые обстоятельства личной жизни писателя, которые в свете поставленных вопросов приобретают, как нам представляется, некий особый смысл. Строго говоря, во всем корпусе мемуарной литературы, посвященной русскому классику, нам удалось обнаружить одно-два свидетельства, в которых Достоевский запечатлен разговаривающим или пытающимся разговаривать по-французски. И попытки эти предстают до того неловкими и до того многозначительными, что их просто невозможно обойти вниманием.
¹ Библиография исследований по «французской идее» Достоевского огромна. См.: Белов 2011. Ср. также: Мейер 2011: 143-205.
² О роли французского языка в новейшей европейской культуре см.: Fumaroli 2001.
Речь идет о фрагменте мемуаров Александра Егоровича Ризенкамп-фа (1821-1895) - врача и близкого приятеля молодого Достоевского, который проживал вместе с ним почти два года «в доме Прянишникова на углу Владимирской улицы и Чернышева переулка в 1843-1845 гг.»:
Я старался познакомить его в некоторых семейных домах... Но будучи не совершенно тверд во французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться, и в один вечер разразился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то «enrage» и почли за лучшее ретироваться. Несколько дней сряду Федор Михайлович просил меня убедительно оставить всякую попытку к сближению его с иностранцами. «Чего доброго, -женят меня еще на какой-нибудь француженке, и тогда придется проститься с русской литературой!» (Ризенкамф 1990: 182-183).
При всем сознании ненадежности всякого мемуарного свидетельства в историко-литературном исследовании, приведенный пассаж представляется весьма характерным и потому интересным именно в отношении одной мелкой детали: недостаточное владение французским разговорным языком. Даже не вдаваясь в слишком известные линии психокритики образа Достоевского-писателя, нельзя не вспомнить в этой связи того обстоятельства, что в глазах многих современников он неизменно представал нелюдимом. Разные мемуаристы и разные биографы по-разному истолковывают эту особенность писательского поведения, не говоря здесь о болезни, приступы которой, равно внезапные и равно ожидаемые, не могли содействовать развитию общительности. Тем не менее, нельзя не обратить внимания на то, что эта общая характеристика замкнутости писателя только подтверждается в этой мелкой и частной детали: Достоевский сторонился французов просто потому, что не очень свободно владел французским разговорным языком.
Или же все было не так просто. И существовала какая-то другая причина, по которой французский язык в сознании Достоевского приобретал вид какого-то темного наваждения. В этом отношении в зарисовке Ри-зенкампфа интерес вызывает, прежде всего, некая странная связь французского языка, с одной стороны, с неприятием иноязычия и иностранцев вообще, а с другой - с чувственной сферой - с женитьбой. Более того, французская речь странным образом сопрягается в мыслях молодого Достоевского с осознанием призвания русского писателя. Французский язык приобретает, таким образом, некую роль в довольно причудливой психодраме писателя, иначе говоря, язык оказывается замешанным в такую нехорошую, но вообще-то обыкновенную историю, в которой начинающий литератор ставит на одну чашу весов - литературу, а на другую - женитьбу и семейную жизнь. Необыкновенность этого выбора, в общем типично
го для писателя романтического склада, определяется исключительно тем, что к нему приплетается французский язык, как если бы именно французский язык и особенно французские женщины воспринимались молодым Достоевским как помеха для карьеры сочинителя, более того, как угроза всей русской литературе, с зовом которой он начинает связывать само существо своей жизни.
Разумеется, подобная трактовка столь мелкого житейского обстоятельства может показаться натяжкой или даже передергиванием случайных деталей в поведении писателя, тем более, зафиксированных в столь недостоверном источнике, как мемуары современника, сочиненные много лет спустя после того, как этот эпизод имел место, если вообще именно так и обстояло дело. Однако, если взглянуть на него именно в перспективе поставленных вопросов, а не брать его только в рамках мемуарного источника, то нельзя не обнаружить некоторых соответствий самого факта неуверенности, нетвердости Достоевского во французском разговоре некоторым отдельным, но постоянно всплывающим мотивам его мысли и существования, которые все как один сходятся именно под знаком неприятия французского языка в странной связи с французскими женщинами и идеей сильной чувственности, если не разврата.
Подобное допущение приобретает особый смысл в свете еще одного жизненного обстоятельства, на которое также следует обратить здесь внимание: речь идет о том, что первой женой Достоевского оказалась-таки француженка. Как бы то ни было, но Мария Дмитриевна Исаева происходила по отцу из аристократического французского рода, один из последних представителей которого бежал от террора Французской революции и нашел пристанище в России в конце XVIII века¹. Будучи существом «болезненно-фантастического характера», Мария Дмитриевна не могла не ук
¹ Согласно новейшим биографическим изысканиям, дед Марии Дмитриевны - Франсуа-Жером-Амадей де Констант был родовитым французским дворянином: «В Россию переселился не отец, а дед Марии Дмитриевны - Франсуа-Жером-Амадей де Констант. Он был отнюдь не наполеоновским мамелюком, а дворянином и капитаном королевской дворцовой гвардии, который после падения Людовика XVI покинул взбунтовавшееся отечество и, как многие другие эмигранты, был привечен щедрой российской императрицей (заболевшей, говорят, при известии о казни французского короля). Дед будущей жены Достоевского поступил на русскую службу, принял православие и новое имя - Степан. Женился он, однако, на француженке. Так что сын его, Дмитрий, отец Марии Дмитриевны, - чистокровный француз» (Волгин 2006). Можно обратить здесь внимание на странную перекличку русского имени этого дальнего французского родственника, неизгладимый образ которого явно присутствовал в сознании первой жены Достоевского, неизменно противопоставлявшей себя, высокородную француженку, низкой русской действительности, с названием вымышленного села «Степанчикова», в котором видится уменьшительная, но отнюдь не ласкательная форма имени французского праотца героини бурного романа, который случилось пережить литератору Достоевскому сразу после выхода с каторги.